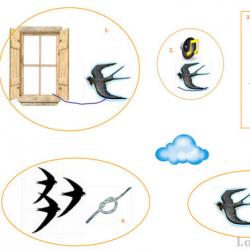Воспоминания рядового участника танкового сражения под прохоровкой. Из воспоминаний ветеранов ВОВ. Водинский Михаил Петрович
Австрия 1945 багратион белоруссия 1941 белоруссия 1943–44 берлинская борьба с УПА будапешт 1945 будапешт 1956 венгрия 1944–45 висло–одерская воронеж 1942–43 восточно–прусская германия 1945 западный фронт 1942–43 заполярьe 1941–44 иран испытание атомной бомбы кавказ 1942–43 карелия корея корсунь шевченковская крым 1941–42 крым 1943–44 кутузов ленинград 1941–44 львовская маньчжурская молдавия 1944 московская освободительные походы 1939–40 партизан плен пражская прибалтика 1941 прибалтика 1944–45 ржевская румянцев смоленск 1941 сталинградская украина 1941 Украина 1944 финская форсирование днепра халхин-гол харьковская хасан чехословакия 1944–45 штрафник югославия ясско–кишиневская
Абрамцев Фёдор
Филиппович
Конечно, эти бои запомнились! У нас от роты курсантов, 150 человек, после тех боев осталось 15 человек! Командный состав весь выбыл очень быстро – кого ранило, кого убило. Рыпалев стал ротой командовать, а какая тут рота, тут одно отделение осталось - 15 человек. Бои были очень сильные. Ходил я в атаку с нашими танками, а что кричали во время атаки… Да кто что, кто с матами, кто так просто орал…
Кузнецов Александр
Антонович
Потом все-таки поняла, что голос то русский, дверь открыла и как упала головой мне на грудь, как заплакала, как зарыдала! Я не могу её оторвать от себя. Потом она взяла себя в руки и закричала в дом: «Мама, да это же наши солдаты!» Ее мать тоже выскочила из комнаты, накинув на себя что-то из одежды, ведь на улице стоял мороз. Это было, как сейчас помню, пятнадцатого января. Мать тоже заголосила: «О господи! Наконец-то!» А потом задумалась и спросила: «Да как же вы к нам попали, ведь у нас в селе немцы?»
Бесхлебнов Валентин
Федорович
Мы совершали различные виды прыжков. Самые сложные – это прыжки на воду, на лес и на городские постройки. Поскольку нас готовили для высадки в немецком тылу, нас готовили основательно. Мы каждую неделю совершали выходы по тридцать – сорок километров. Выход – это значит с полной выкладкой тридцать километров ты должен пройти. Да еще и учения по пути нам устраивали: могли дать команды: «Противник слева! Противник справа! Приготовиться к бою!»
Герасимов Владимир
Алексеевич
Через какое-то время все затихло. Мне сказали: «Все, немцы сдались!» И я, как только узнал об этом, так сразу упал. Такое сильное, понимаешь, перед этим испытывал напряжение. Ничего не чувствовал. А как все это ослабло, так меня как будто чем-то пронзило. Я уже ничего не понимал. Тебе в такой обстановке все безразлично: убьют тебя, не убьют, все-как-то ослабевает. И плакал я тогда: слезы невозможно было удержать. Ко мне подходят ребята, говорят: «Да что ты плачешь? Война-то, считай, кончилась».
Невесский Евгений
Николаевич
Гул далекий, почти непрерывный, то нарастающий, то стихающий, он меня тревожил уже несколько часов, я не мог уйти от него, он неистребимо лез в уши. Мне казалось, что он таит какую-то опасность. Глухой лес. Узкая просека, на которую я вышел, тянулась вдаль. Она была чистой, успокоительно пустой, следов людей не было видно, и я решил пойти по ней. Сырой, пасмурный день. И только далекий гул, словно пропитывающий воздух...
Решетняк Мирон
Иванович
Мы были так воспитаны при Советской власти, был такой патриотизм, что о личных своих интересах мало заботились. Мы заботились о том, чтобы было лучше, не столько себе, сколько другим. Если я делал что-то хорошее для другого человека, я считал, что я сделал хороший поступок. Воспитание было другое, патриотизм. Если бы не было патриотизма, мы не победили бы. Чтобы убить человека, его надо ненавидеть. Если ты не ненавидишь, то страшно убить. Если же ты ненавидишь человека всеми фибрами своей души, если он враг, если он насилует, убивает – его легко убить. Вот это я понял, вот это запиши.
Кожухарь Георгий
Карпович
Мне тяжело, сказывается слабость; только 12-го мая выписался из госпиталя после повторного воспаления лёгких, в груди колет, не хватает воздуха. Мало того, что ружьё весит 16 килограммов, так ещё развёрнутые сошки мешают шагать. Пришлось взваливать его на плечо. На боку сумка с 18 патронами, каждый весит 130 граммов. Два патрона израсходовал при стрельбе по огневой точке. Продвигаюсь с наступающими вперёд. Переходим линию первых окопов и натыкаемся на огонь пулемётной точки.
Фриберг Оскар
Ларсович
А ведь наш батальон воевал под Сталинградом! Вначале такая жара стояла невыносимая, что гимнастёрки просто ломались, до того просоленные были от нашего пота. А затем такие морозы ударили, что я на всю жизнь запомнил зиму на 43-й год… Несмотря на погоду, мне приходилось тянуть связь по снегу. Руки замерзали, плохо слушались, когда надо было соединять провода...
Жилкин Василий
Григорьевич
У нас не было ни отступлений, ни наступлений. Мы, как сурки, зарылись в землю и все время были только в обороне. Снаряды летят, мины рвутся, а мы, как только заканчивается обстрел, зарываемся глубже. Земля там песчаная была, после каждого обстрела осыпалась. Но паники никакой в наших боевых порядках не было, ребята знали, на что шли. Морально мы их настроили еще в Пензе. После каждого обстрела начинаешь проверять личный состав, а в ответ слышишь: «Все нормально!» Трус умирает много раз, герой умирает однажды.
Арутюн Герасим
Мацакович
А солдатам – обязательно – дружба. Только дружба! Если кто-то будет раненый – обязательно помочь. Ну, и хорошо воевать. Это было нашей целью – только хорошо воевать! Это наши все мысли были – только хорошо воевать. И больше ни о чём не думать!
Нас, группу гостей слёта победителей Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы, привезли в . Автобус остановился на обочине шоссе под указателем с надписью «Танковое поле». Мы, участники боев на Курской дуге, вышли. Дул довольно ощутимый северный ветер, и танковое поле словно катилось к нам длинными золотыми волнами пшеницы. Стебли поясно кланялись бывшим фронтовикам, распрямлялись, тонкие и сухие, и снова кланялись, опуская туго налитые колосья.
…А сорок лет назад это поле, перепаханное не плугом крестьянина, а гусеницами танков, было сизо-чёрным от гари и пепла. Над ним стояли тугие облака дыма и пыли, разрываемые тут и там красными ранами взрывов…
Товарищи, - обратилась к нам молоденькая девушка, корреспондент местного радио, - был ли кто-либо из вас участником боя на этом поле?
Оказалось, один я.
Расскажите, пожалуйста, товарищ полковник, об этом , а я запишу на плёнку.
И передо мной сверкнул на солнце никелированный стерженёк микрофона.
Что мог поведать тот, кто сидел в грохочущем, огнём и мотором раскалённом танке, кто видел бой через проходное отверстие в шаровой установке своего пулемёта? Да и много ли расскажешь во время пятиминутной остановки? Очень и очень мало. Только на бумаге есть возможность сделать это подробно и обстоятельно.
…До сих пор не забылось ясное и, как ни странно, тихое раннее утро 12 июля. Нам принесли завтрак: по ржаному сухарю и по половинке недозрелого арбуза. За ночь кухня где-то отстала, а к скромному «нз» - неприкосновенному запасу - мы давно уже «прикоснулись». Над нашими головами высоко в небе гудели «петляковы», шедшие эшелонами на юго-запад. В том же направлении вскоре двинулись и мы, растянувшись цепью.
Танк шёл по ровному, ещё не тронутому гусеницами полю, подминая островки пшеницы, наливавшей колос. Солнце поднялось уже довольно высоко, когда мы вдруг остановились. На нашей «тридцатьчетвёрке» не было радиостанции, и командир танка ориентировался на то, как действует экипаж ротного, наблюдая за ним из открытого люка.
Неожиданно на горизонте, у самой кромки неба, показались облака то ли дыма, то ли пыли. Они поднимались всё выше и выше. Механик-водитель заглушил двигатель. Люк его был открыт, и мы оба смотрели через него вдаль, на те зловещие облака, интуитивно чувствуя, что ничего хорошего они нам не сулят.
Похоже, танки идут, - сказал лейтенант, стоявший на своём командирском сиденье.
А чьи? - спросил его механик, высунувшись из своего люка.
Да чёрт их знает. Может - наши, а может - немецкие. Говорят, тут ночью наша новая армия подошла.
Но ведь дым-то в нашу сторону катится.
В нашу, - спокойно ответил лейтенант, глядя то на длинное чёрное облако впереди, то на машину ротного. Внезапно там, в чёрном облаке, начали рваться снаряды, где-то позади нашего танка, за железной дорогой, раздался визг «катюш», впереди заплясали фонтаны земли.
Немцы! - Лейтенант, захлопнув люк, крикнул Суханову: -Заряжай!
Осколочной, готово! - ответил тот под лязг и звон затвора.
Какой «осколочной»? Бронебойным давай! Танки идут. Кажется, «тигры» впереди.
Бронебойным, готово!
« », имевшие 88-миллиметровые зенитные пушки, открыли огонь болванками километров с полутора, в то время как мы могли стрелять только с дистанции восемьсот метров. Подбили кого фашистские танкисты или нет, я не знал. Для наблюдения за полем боя у меня осталось только одно крохотное отверстие для пулемётного прицела.
Вот выстрелил наш танк, ещё раз и ещё. Суханов, надевший брезентовые рукавицы, уже выбрасывал через свой открытый люк дымящиеся снарядные гильзы.
Механик, вперёд! - что есть мочи крикнул лейтенант.
После боя мы узнали, что ротный своим подал всем пример идти на сближение с врагом, чтобы иметь возможность бить по нему с коротких дистанций.
Через несколько минут наша машина остановилась. В башне: пять загремели выстрелы. Теперь немецкие танки стали видны и мне. Мешал лишь дым. Это загорелась пшеница. Моя цель -пехота. Но её пока не было. Я потянулся к триплексу механика-годителя: оттуда виднее. Фашистские танки двигались «кучками». Впереди или в центре их - громадные «тигры», сзади и г.о бокам - «зверье» поменьше.
Пулемётчик, огонь по бронетранспортёрам! - услышал команду. А где они, эти бронетранспортёры? Мне сзади ничего не видно. Скорее всего там, за танками. Лейтенант в прицел их эидит, а я нет.
Пулемёт застучал. Малиновые трассы потянулись к лавине танков, летели мимо них прямо в густую мешанину пыли и дыма. Загрохотал и пулемёт, спаренный с пушкой. Это в перерывах между выстрелами орудия посылал короткие очереди лейтенант. Но его трассы шли ниже, почти над самой землёй. Последовав его примеру, убавил прицел.
Вражеские танки остановились. Среди них то там, то тут ззлетали огненные языки - горели подбитые машины. А над гремящим, лязгающим полем ни ветерка, ни единого дуновения. Пыль и дым буквально висели гигантскими малахаями над ними и над нами. В танке становилось невмоготу. От жары стрельбы броня нагрелась, дым от пулемётов царапал горло и ноздри.
Неожиданно раздался оглушительный звон, танк встряхнуло. Мне показалось, что он даже качнулся назад, в ушах резануло, словно раскаленной иглой. В «тридцатьчетвёрку» угодил снаряд, к счастью, не из «тигра», поэтому броня выдержала удар. После боя мы осмотрели место попадания: снаряд «боднул» наклонный лист брони, срикошетировал, зацепил выступ орудийной маски и ушёл в небо.
А бой всё гремел. Шла настоящая дуэль танков и людей. В неё не вмешивались ни артиллерия, ни авиация. Потом мы узнаем, что танки противостояли друг другу на протяжении нескольких километров и что их с обеих сторон было свыше 1200.
Где-то около полудня или чуть позже немецкие танки вдруг начали пятиться, отстреливаясь из пушек и пулемётов. Мы начали преследовать гитлеровцев. Командир танка стрелял всё реже: подходили к концу так же, как и снаряжённые пулемётные диски; у меня в гнёздах оставалось два или три полных, остальные - порожние.
Наш танк на малой скорости двигался по территории, перепаханной вражескими гусеницами, механик сквозь пелену пыли и дыма разглядывал впереди лежащую местность, чтобы ненароком не врезаться в горящий танк, свой или чужой. Кажется, всё так перепуталось, что невозможно было узнать, где свои, а где немцы. Наверное, только лейтенант через перископ и мог видеть, что творилось на поле боя, где сталкивались лбами машины со звёздами или с крестами на бортах, где расстилались по земле длинные, отполированные катками ленты гусениц.
А фашистские машины прибавляли ходу, огонь с той стороны слабел, по броне зацокали пули, значит, по нам уже стреляли из пулемётов. Лейтенант приказал открыть огонь и мне. Я вставил предпоследний диск. Но схватка, кажется, подходила к концу. Как сказали бы в стародавние времена, поле боя осталось за нами. Наутро предстоял следующий.
Журнал «Военные знания». № 7. 1983 г. С. 8 - 9.
История жизни одного человека
едва ли не любопытнее и не поучительнее
истории целых народов.
Русский классик
То, что я для вас публикую, - это Воспоминания моего тестя, ныне покойного отца моей, тоже уже покойной, жены Елены – Владимира Викторовича Лубянцева.
Почему я решил их сейчас опубликовать? Наверно, для меня пришло время. Время отдать ему дань памяти. И время, когда, наконец, появилась такая возможность, о которой ещё недавно можно было только мечтать.
Вполне допускаю, что эта его, автора, проза не является чем-то выдающимся - с литературной точки зрения. Но он, как немногие, на склоне лет нашёл время и силы рассказать и сохранить для нас уже ушедшие в историю эпизоды своей жизни. «Иные не делают и этого»,- сказал поэт.
И то, о чём он рассказывает, также не является чем-то неординарным: это - не приключения в джунглях, не полярная экспедиция и не полёт в космос… Он просто рассказывает о тех событиях, участником которых был наравне с другими – тысячами и миллионами; о событиях, о которых он знает в самых мельчайших подробностях, не понаслышке.
Это рассказ о том периоде его (и не только его) жизни, который многое определил и стал самым важным и значимым – о войне, о боях, в которых он участвовал до Дня Победы, начиная с 1940-го года. И рассказ этот простой, искренний. И страшный той правдой жизни, которую ему, как и многим его поколения, пришлось пережить.
Писал он эти Воспоминания не напоказ и не рассчитывая увидеть их напечатанными: всё же не член Союза Писателей СССР, не маршал Советского Союза… а самиздат в те годы, мягко говоря, не поощрялся… Писал, что называется, в стол. Тихо и скромно. Как и жил.
Я даже не скажу, что при его жизни я питал к нему какое-то особое почтение. Скорее – наоборот. Я видел перед собой только замкнутого, глуховатого старика, целыми днями сидевшего перед политизированным телевизором, по которому день и ночь шли жаркие дебаты в Верховном Совете СССР (это был конец 80-х), а вечером – выходившего во двор покормить птичек да бездомных кошек, - почти чужого и далёкого от меня человека.
Он также, догадываюсь, с недоумением смотрел на меня, тогда ещё молодого, тридцатилетнего, как на что-то чужеродное, непонятное, вдруг вторгшееся в его жизнь.
К счастью или нет, но встречались мы с ним редко – в летние месяцы, когда я с женой и маленькими детьми приезжал к её родителям в Нижегородскую (тогда Горьковскую) область.
Центром притяжения в их доме была (она умерла в 1993 году, на год раньше его) мать моей жены, т.е. моя тёща Мария Николаевна – замечательной души человек. Она, уже тяжело больная, всё же находила в себе силы позаботиться о каждом из нас. А набивалось нас в их маленькую квартирку сразу три семьи: кроме меня с женой и двумя маленькими детьми, приезжали ещё их средний сын с женой и пятью детьми, так что было тесно, шумно и весело. Тестя же я в доме почти не слышал. От моей жены я узнал, что перед пенсией он работал бухгалтером (в советское время – за мизерную зарплату). А ещё показывала мне его старые фото конца 40-х: статный молодой офицер под руку с молодой красавицей-женой Марией.
И только много лет спустя, уже после его смерти, я прочитал его Воспоминания. И его внутренний мир, его история и жизнь открылись мне с другой стороны.
Может, прочитать бы их раньше, при его жизни, - наверно, и отношение к ветерану было бы другое…
Март 2010 г.
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛУБЯНЦЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В армию я был призван в декабре 1939 года после окончания института. До 1939 г. была у меня отсрочка от военной службы по учебе в ленинградском финансово-экономическом институте. Служить я начал в 14-м отдельном танковом полку одесского военного округа. Изучали технику, радиосвязь, тактику боя, сначала «пеше-танкового», а потом и в самих танках. Был я башенным стрелком-радистом у командира батальона майора Литвинова, быстро заряжал пушку, отлично держал связь открытым текстом и через азбуку Морзе, отлично стрелял из пушки и пулемета, а при необходимости всегда мог сесть за бортовые фрикционы механика-водителя. Механиком-водителем был Павел Ткаченко. Научились водить танки даже без света фар в ночное время.
Летом 1940г. наш 14-ый отдельный танковый полк участвовал в освобождении Бессарабии. Румыны покидали Бессарабию без боев.
Уводили с собой скот, имущество, награбленное у жителей Бессарабии. Но мы им это осуществить не позволили. У нас были быстроходные танки БТ-7. Мы пошли в обгон румынских войск, за несколько часов пересекли всю территорию Бессарабии и встали на всех переправах по реке Прут. Мы отбирали награбленное имущество и пропускали только войска с оружием, которое они могли нести, и лошадей, запряженных в лафеты. Пропускаемые войска выстраивали, спрашивали, есть ли желание остаться в советской Бессарабии. Солдаты были запуганы, офицеры им говорили, что через год они вернутся и с нами расправятся. Но находились смельчаки, выходили из строя. Забирали подводы с имуществом, коров, лошадей и отправлялись по домам. Некоторые почему-то разувались. Ботинки жалели что-ли, уходили босиком, закинув ботинки на плечо. Мы стояли на Пруту несколько дней. По ночам на румынской стороне слышались выстрелы. Стреляли по солдатам, решившим бежать в нашу Бессарабию ночью. Некоторые переплывали к нам. После ухода румынских войск с территории Бессарабии наш полк проделал обратный ход по Бессарабии за реку Днестр и расположился в пригороде Тирасполя. Здесь продолжались еще год тактические занятия, стрельбы, ночные переходы, учебные тревоги. В июне 1941 года из состава полка была выделена группа танкистов, имеющих высшее образование (по гражданке). Я был зачислен в эту группу. Нам предстояло сдать три экзамена: по знанию техники, ведению боя и политической подготовке. Потом полагалось два месяца стажировки уже в качестве командиров танковых взводов, а в сентябре - увольнение в запас с присвоением звания лейтенанта каждому из нас. Но осуществить все это не удалось. До 20 июня мы сдали два экзамена, а последний экзамен сдавать не пришлось, началась Великая Отечественная война.
22 июня 1941 года наш полк поднялся по тревоге, мы пошли снова в Бессарабию по мосту через реку Днестр от Тирасполя на Бендеры и на мосту сразу попали под бомбежку. Мост через реку Днестр бомбила вражеская авиация, но ни одна бомба не попала в мост. Все рвались справа и слева в воде. Мы прошли Бессарабию до передовых частей нашей пехоты и стали прикрывать их отступление. Работы нам оказалось гораздо больше, чем мы представляли себе на тактических занятиях. Ночью надо было выкопать площадку для танка, загнать танк на площадку, чтобы из земли была видна только башня танка. Днем мы вели обстрел противника, а ночью снова меняли позицию и копали новые щели для танков. Копали до изнеможения, спать приходилось мало. Однажды водитель соседнего танка поставил танк под уклон, но на горный тормоз и лег под танк спать. Налетела авиация, одна бомба разорвалась близко, танк встряхнуло и сорвало с горного тормоза. Он двинулся под уклон, и днищем насмерть притиснуло лежащего под танком водителя. Под бомбежками мы были много раз. И во время переходов, и на стоянках. Если это случалось во время перехода, механик разворачивал машину вправо, влево, включал такую скорость, что машина летела, как птица, выбрасывая два фонтана земли из-под гусениц.
В июле 1941г наш полк был направлен к Киеву (юго-западный фронт). 24 июля 1941г было дано задание на разведку боем силами одного танкового взвода. Было это между пос. Монастырище и городом Белая Церковь. Вместо майора Литвинова в мой танк сел командир взвода, лейтенант. Мы прошли несколько километров колонной, а потом на одной возвышенности развернулись углом вперед и стали спускаться, обстреливая дальние кусты. Оттуда нас тоже обстреляли, что и нужно было нашим наблюдателям. Мы мчались на большой скорости, я быстро подавал новый снаряд, как только падала стреляная гильза в гильзоулавливатель. В цель при большой качке попасть трудно, но мы стреляли для испуга. Вдруг меня встряхнуло, как электрическим током, и левая рука непроизвольно дернулась к левому глазу. Я заорал: «Я ранен!» Механик оглянулся на лейтенанта, но тот крикнул: «вперед, вперед!», потом тише: «нам нельзя разворачиваться и подставлять бок, там броня слабее». Тут же раздался лязг, а лейтенант чуть приоткрыл люк и выбросил «лимонку» в убегавших фрицев. Понравился тогда мне этот лейтенант. Он действовал не как герой, а как простой труженик, знающий свое дело и свою машину. В такой напряженной и опасной обстановке он действовал вдумчиво, как на работе. А обо мне подумал: раз кричит, значит живой, пусть потерпит. Без дополнительных происшествий мы вернулись на свою базу. Когда я отнял ладонь от левого глаза, там оказался сгусток крови, за которым глаз не был виден. Перевязал меня механик – водитель, он подумал, что глаз выбит. А я не завязанным правым глазом осмотрел наш танк. Царапин и ссадин на нем было много еще в Бессарабии, сбит перископ, антенна. А теперь появилась дырка рядом с пулеметным отверстием. Снаряд не пробил лобовую броню танка, но дырку небольшую высверлил, меня осыпало в лицо мелкими осколками своей отколовшейся брони.
Медсанбат отправлял всех поступавших раненых на подводах. Мы пошли по украинским селам. Жители встречали нас, первых раненых, приветливо, ласково, угощали домашними пышками, приглашали в сады. Увидев, что я не могу отловить вишню с куста, меня вели к скамейке и предлагали вишни, собранные в корзину.
Когда мы подошли к железной дороге, там стоял санпоезд, который и доставил нас в эвакогоспиталь 3428 в город Серго Ворошиловоградской области 31 июля 1941 года. Врача окулиста в этом госпитале не было, был один на несколько госпиталей. Он пришел на следующий день, 1 августа. Восемь дней прошло после ранения. Мои очи пылали, как огнем, я не мог шевелить веками. Врач что-то побурчал персоналу, что не вызвали его раньше, но, узнав, что я прибыл только вчера, бодро пообещал мне быстрое выздоровление, а на первый случай познакомит меня с некоей «Анастасией», которая снимает все боли. Он велел держаться за его плечо и повел меня в операционную. Там закапал в глаза лекарство, расспросил меня о смелых танкистах. Я рассказал ему о лейтенанте Сароисове, который гоняет свой танк по деревням, занятым немцами, под ураганным огнем противника. Потом врач меня предупредил, чтобы я не ворочал глазами без его команды, сославшись на то, что у него оружие острое, с ним надо вести себя осторожно. Он удалил из роговой оболочки обоих глаз видимые осколки, а я ворочал глазами по его команде. После операции он уехал. Приехал через два дня с рентгеновской пленкой, сделал снимок и уехал.
Когда снова приехал, опять вынимал осколки, проявленные на пленке. С собой имел новую пленку и сделал снимок. В следующий приезд он сказал, что в правом глазу осколков нет, а в левом вырисовывается два осколочка в недосягаемом для скальпеля положении. Он решил сделать снимок левого глаза с движением глаз. Во время съемки скомандовал мне: «вверх-вниз». Опять уехал и вернулся через день. Сказал, что оставшиеся два осколка находятся не в глазу, а в глазнице. Они обрастут оболочкой, и, может быть, не будут беспокоить. А если их удалять, то надо оттягивать глаз или пробивать висок. Операция сложная, можно потерять зрение. Несколько дней мне еще закапывали лекарство в глаза, а вскоре перестали, и я стал нормально видеть. 22 августа я выписался из госпиталя и поехал в Сталинград в надежде попасть на танк Т-34, о чем мечтал каждый подбитый танкист.
Сталинград был еще цел и невредим. В мирном небе на большой высоте спокойно и тихо плавала лишь немецкая рама Фоке-Вульф.
У коменданта собралась группа танкистов разных специальностей. Их уже посылали в танковый полк, но снова вернули. Теперь комендант направил нас в тракторный полк (был в Сталинграде в августе 1941г и такой полк). Но и там было полным-полно народу, а машин не хватало. Нас вернули и оттуда.
Тут подвернулся покупатель из 894 стрелкового полка. Обещал всем найти работу по душе. Мне, например, ручной пулемет Дегтярева, только на треноге, а не в шаровой установке, как это было в танке БТ-7, или переносную коротковолновую станцию 6-ПК. Повидал я еще раз этого штабника. На лица у меня плохая память, но он меня сам узнал. Спросил, как я устроился. Я ответил, что обещанная им 6-ПК осталась пока в мечтах, а у меня за плечом была новенькая семизарядная винтовка СВТ с длиннющим штыком формы кинжала. Он спросил, сколько мне лет, я сказал - 28. «Ну, тогда у тебя еще все впереди, - сказал он. - Должно все исполниться». С тем мы и расстались. Он пошел по своим делам, а я полез в «телячий» вагон. Поехали мы на запад к Днепру. Где-то мы высадились, часть прошли пешком. Потом нам показали, где наша полоса обороны. Меня назначили командиром отделения, сказали, чтобы я выделил одного стрелка связным к командиру взвода. В отделении моем было со мной 19 человек. У каждого из нас на поясе в чехле была лопатка с коротким черенком, их мы и применили для нашего благоустройства. Грунт вначале был мягкий - пашня, а поглубже- более твердый. Время было к вечеру, когда мы приступили к работе, копали всю ночь. К рассвету у правого моего соседа окоп был готов в полный рост, у левого соседа и у меня работа шла менее успешно. Я похвалил соседа справа, сказав, что при таком темпе работы он через недельку может сделать подкоп к позициям противника. Рассказал шутку, ходившую у нас, танкистов: «один пехотинец так глубоко ушел под землю, что его не нашли и посчитали дезертиром». Посмеялись. Я спросил, не работал ли он в тридцатом году на Московском метро. Там Маяковский восхищался работой строителей. Он говорил: «под Москвой товарищ крот на аршин разинул рот». Сосед высказал беспокойство в отношении воды, я посоветовал ему съесть помидор, плантации которых окружали нас. В свою очередь и я высказал беспокойство, но уже другого рода – почему-то время от времени в ближайших кустах раздавались хлопки, как будто поблизости кто-то стрелял. Мой сосед меня успокоил: «это, не бойся! Это финская «кукушка» где-то в тылу сидит и стреляет наугад, а пули – разрывные, задевают за кусты и хлопают для испуга, а вреда от них почти никакого».
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛУБЯНЦЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Прошел один день, другой, третий. Дальнейшие события уже стали вызывать беспокойство у всех: ожидаемый термос за спиной кашевара не появлялся, связной тоже как в воду канул, впереди грохотали артиллерийские залпы. Через нас пролетали самолеты со свастикой, бомбили вблизи за нашими спинами, справа и слева от нас, нас как будто не замечали. Правда, мы свежую насыпь на брустверах прикрывали зелеными ветками, днем прекращали работы и, зажав винтовку между колен, старались уснуть хотя бы на короткое время, сидя в окопчике. В ночное время по осветительным ракетам можно было понять, что наша позиция - не передний край, впереди бой принимают другие наши части. Там взвивались и немецкие осветительные ракеты, которые висели в воздухе долго, а наши осветительные ракеты в воздухе не зависали, падали скоро. Об этом мы догадывались сами. Связь с нашим взводом отсутствовала трое суток, мы за это время выкопали окопы в полный рост и хода сообщения между ними, съели НЗ (галеты и консервы), а вместо воды ели помидоры с кустов. В конце концов, никакой страх не мог удержать нас от поисков воды. Я взял своего успешного землекопа и пошел с ним сначала по нашим ходам сообщения влево. Из последнего окопчика перебежали открытое пространство в гряду зарослей и по этой гряде пошли как бы в тыл нашим окопам. Останавливались, старались запомнить свой путь. Наткнулись на дорогу, которая по-видимому, вела к помидорным посадкам, где были наши окопы, Но мы вышли на эту дорогу, сделав дугообразный ход по кустарникам. Дальше дорога эта шла по открытой местности. Мы постояли, понаблюдали, а потом пошли с интервалом метров пятьдесят друг от друга. Дошли до следующих кустарников, тут оказались садовые посадки, а между ними дом с упавшей крышей, и дальше – колодец «журавль».
Мы чуть не закричали от радости. Стали доставать воду. Ведро протекало, но напиться хватило и во фляги набралось. Поискали ведро в доме, но не нашли. Во дворе нашли грязное. У колодца помыли, поскребли, несколько раз налили, получилась вода чистая. Вдруг нас окликнули: «ребята, вы из 894 полка? Мы давно на вас смотрим, а вы нас не замечаете». Из кустов вышли два солдата интендантской службы с вещевыми сумками и термосом. Они принесли нам хлеб и шпик. Рассказали, что были здесь вчера, дальше хотели пойти, но их обстреляли как раз из тех зарослей, которыми сейчас прошли мы, считая этот путь безопасным. Мы сразу взяли по куску шпика и съели его с хлебом. Сало было свежее, непросоленное, срезанное с красным мясом, но нам очень понравилось. Я вспомнил, что где-то читал, что крупная змея и черепаха могут терпеть голодовку больше года, а клоп до семи лет, но наш землеройный собрат-крот не может прожить без пищи даже 12 часов. Мы тоже в этой части слабоваты. Наши интенданты рассказали нам, что наши подразделения имеют большие потери от бомбежки и арт-огня, поэтому и не было связи, но теперь они о нас скажут. Нам оставили термос, мы из него выложили шпик в вещмешок, а его наполнили водой. Мы условились встретиться здесь через день или два. Вернулись в окопы без происшествий. Я распорядился, чтобы все проверили винтовки, они самовзводные, при засоре могут отказать. Решил пострелять по ближайшим кустам. От своих окопов стали копать ход в тыл, к нашему пункту снабжения. К вечеру второго дня отрядил двоих за водой и проверить, были ли снабженцы в условленном месте. Воду принесли, а продуктов еще не было. Еще через день пошел сам с помощником. Пригибаясь можно уже было пройти более половины пути выкопанным новым ходом в тыл. Послышались волнистые звуки самолетов.
Наши моторы ровно гудят, а эти волнисто, то громче, то тише, значит – вражеские. Завизжали брошенные бомбы и, как мне показалось, взметнулась земля у колодца, к которому мы не дошли. Была ли ещё какая стрельба или всё было только с неба, было непонятно, только взорвалась вся земля и всё кругом загремело и почернело, меня как-то подбросило. Страха не было. Когда чувствуешь ответственность за других, то о себе забываешь. Я, согнувшись, кинулся назад к своим окопам. Вдруг левую руку дёрнуло в сторону и по всему телу прошло электричество. Я упал, но сразу поднялся и добежал до большой воронки. В неё прямо прыгнул. Левая рука попала во что-то горячее, а правая оперлась на винтовку. Я осмотрел левую руку, из ладони торчали белые головки костей, кровь как будто и не текла. Удар был тыльную часть кисти, и все кости были вывернуты на ладони, а рука запачканной чем-то тлеющим на дне воронки. Рядом со мной оказался и мой спутник. Я всегда ему говорил, чтобы при бомбёжке выбирал большую воронку, два раза в одно место бомбы не попадают. Я достал индивидуальный пакет, стал перевязывать рану. Грохот прекратился, гул самолётов сначала удалился, а потом снова начал нарастать. Самолёты после бомбометания возвращались и обстреливали местность из пулемётов. А я этого во время бомбежки не заметил. Опасность миновала, а рука заболела по-настоящему, отдавало даже в плечо, повязка намокла от крови, а мой спутник всё-таки мне позавидовал: «Откровенно скажу тебе, счастливчик ты, но не теряй время, ищи скорей медпункт, а я посмотрю, живы ли наши. Не забудь сказать про нас там командирам, а то погибнем мы без всякой пользы». Я обещал ему и посоветовал послать нового связного. Было это 11 сентября 1941 года.
Медпункт я нашёл километрах в двух, мне сделали укол от столбняка, промыли рану, забинтовали, отправили в медсанбат. Я не хотел уходить, сказал, что обещал сообщить начальству о своих людях, оставшихся без связи, без пищи, а может быть и без воды, если бомба повредила колодец. Но меня заверили, что обо всём доложат. Несколько дней я лечился в медсанбате, а с 27 сентября по 15 октября 1041 года в эвакогоспитале 3387 ростовской области. После выздоровления я стал радистом. Сбылось предсказание Сталинградского штабника, мне дали переносную коротковолновую радиостанцию 6-ПК, и я держал связь из батальона с полком. Это был 389 стрелковый полк 176 стрелковой дивизии. Участвовал в жестоких боях, которые в сводках Совинформбюро именовались боями местного значения. Осенью 1941 года гибли тысячи наших бойцов, огневое превосходство было на стороне немцев, особенно тяжело было зимой.г. Бойцы поднимались в атаку, а ураганный огонь останавливал, залегали бойцы в снегу, много было раненых, обмороженных, убитых и закоченевших в снегу.
После разгрома немцев под Москвой заметно было какое-то облегчение и на других фронтах. Хотя и падала пехота перед встречным огнём, но уже более решительно и дружно вставала для новой атаки.
Весной 1942 года мы слышали уверенный рокот нашей артиллерии и звонкий голос «катюш» за нашей спиной, от чего и нам хотелось запеть. В эту весну даже была попытка организовать ансамбль голосистых солдат.
Командование южного фронта организовало курсы младших лейтенантов. На эти курсы направляли отличившихся в боях сержантов и старшин из всех воинских подразделений фронта. Занятия начались в г. Миллерово Ростовской области. Однако летом пришлось отходить под новым натиском немецких войск. После неудачной попытки взять Москву немцы решили обойти ее с юга, отрезать от источников нефти. Большая часть моторизованных войск шла на Сталинград, и не менее мощная - на Кавказ через Краснодар. В Краснодаре в то время было офицерское пулеметно-минометное училище, где учился мой брат Миша. С приближением фронта училище расформировали, а курсантам присвоили не офицерские звания, а сержантские. Вручили станковые пулеметы и отправили защищать Сталинград. С какой бы готовностью я заменил брата, мне 29 лет, а ему только 19. У меня год войны, два ранения, я опыт имею, а он новичок без всякого опыта. Но судьба распорядилась иначе. Он шел в пекло, а я пока уходил от горячих схваток, правда, с боями: в некоторых местах приходилось занимать оборону. Дошли мы до станции Мцхета (около Тбилиси) и там обучались до октября 1942г. В октябре я получил звание младшего лейтенанта и был направлен в 1169 стрелковый полк 340 стрелковой дивизии в г. Ленинакан Армянской ССР на должность командира минометного взвода. Здесь надо было обучать грузинских парней, только что призванных в армию. В моем взводе были ротные минометы калибра. Боевая техника, прямо скажем, не сложная. Мы ее изучили быстро. Заодно изучили и стрелковое оружие пехотинцев в виду того, что взвод минометчиков придан был стрелковой роте, действовать в бою должен выл рядом с пехотинцами или даже непосредственно из окопов и траншей пехоты.
Ребята во взводе были грамотные, ловкие, хорошо знали русский язык, особенно отличался один паренек, непохожий на грузина, был он не брюнет, а русый, даже ближе к блондину. Какой-то он был спокойный, уверенный, рассудительный. В каких жестоких боях я побывал со многими людьми, но имен и фамилий не запомнил, а этого парня помню до сих пор. Фамилия его была Домбадзе. К его помощи я иногда прибегал, когда замечал, что меня не поняли. Тогда он объяснял всем по-грузински. Через него я стремился создать доброжелательность, дружбу, сплоченность во взводе, взаимовыручку и взаимозаменяемость на случай выбытия кого-то из строя. Этого я добивался и своими рассказами о пережитом и увиденном в боях и, в первую очередь, тактическими занятиями. Поскольку боевая техника была простая, то главной задачей я считал отработку практических умелых действий в обороне, во время обстрела наших позиций или бомбежки, тактических действий при наступлении нашей стрелковой роты, к которой мы приданы. Выбор места, быстрота развертывания в боевые порядки, точность попадания в заданные цели. Тактические занятия проходили за городом Ленинаканом. Местность там высокогорная с довольно суровой зимой, что создавало неудобства и трудности, приближая учебу к обстановке, близкой к обстановке на фронте. Неподалеку от нашего полигона проходила граница с Турцией, в синей дымке виднелись острые крыши минаретов. Так время дошло до весны 1943 года. Я полагал, что к маю месяцу мы будем на фронте. Но к этому времени пришла группа молодых офицеров, которые после окончания курсов не имели практического опыта. Их оставили в дивизии, а из взводов и рот выбрали офицеров, имеющих боевой опыт, и направили в распоряжение фронта. Тут уж не трудно догадаться, что и я оказался в числе имеющих боевой опыт, позарез необходимых фронту.
В мае 1943 года я оказался в 1369 полку 417 стрелковой дивизии командиром минометного взвода. Взвод свой я нашел в непосредственной близости с пехотой. Присматриваться друг к другу не было времени. Бойцы отнеслись ко мне с уважением, когда узнали, что я был в боях с первого дня войны и в самую трудную зиму 1942-43 года, имел два ранения. Да и между собой они мало знали друг друга. Многие выбывали из строя, их заменяли подносчики мин, обучались в бою. Бодрость духа была высокая, немца не боялись, знали о победе под Сталинградом, на выстрел отвечали выстрелом. Смело обстреливали позиции немцев минами, потом прятались в ниши, ожидая ответного обстрела. Старались держать противника в напряжении. На флангах демонстрировали наступление. На нашем участке шла позиционная война, немцы не наступали, и мы пока тоже вели только обстрел. Зато обстрел был частым. Мины нам приносили, или мы сами носили ночью, а днем они у нас не залеживались. Однажды после наших залпов мы укрылись в нишах, немцы тоже постреляли и перестали. Я вылез из ниши и пошел по ходам сообщения. Поблизости стоял пулеметчик у пулемета. А немцы дали еще залп. Взрыв я увидел позади пулеметчика, осколком ему сорвало каску и часть черепа. А боец еще стоит, потом медленно повалился…
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛУБЯНЦЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
7 июля 1943г я был ранен, сорвало осколком чашечку коленного сустава левой ноги. А было это так. Решили мы дождаться, когда начнут немцы, и ответить сразу, пока они находятся у минометов, не ушли в укрытие. Эффект получился поразительный, немцы как будто подавились. Мы дали несколько залпов, а противник молчал. Только после долгого молчания начался беспорядочный обстрел с дальних позиций. Им отвечали наши батальонные минометы калибра. Мы отсиживались в своих укрытиях-нишах. Ниша-это небольшое углубление в стене траншеи. Каждый выкапывал его себе сам как временное укрытие от огня противника. Во время обстрела я сидел в своем укрытии, поджав колени. Ниши делались неглубокие из-за опасения обвала траншеи, так что в нише пряталось только туловище, а ноги были вне укрытия. Одна мина разорвалась на бруствере почти напротив моей ниши, и меня ранило в левое колено. За мое пребывание около двух месяцев во взводе у нас потерь не было, наверное, потому, что была дисциплина. Была даже введена команда: «Взвод, по нишам!». И все, кто даже держал мину в руке, не успел опустить в ствол миномета, разбегались. Я ввел эту команду, чтобы уберечь взвод от потерь, сам и выбыл раньше всех. Такова ирония судьбы. Но я заверил ребят, что подлечусь и быстро вернусь. Ранение-то легкое. Лечился я в АГЛР №3424 (Армейский госпиталь легкораненых) с 9 по 20 июля -11дней. Госпиталь располагался на лужайке в парусиновых палатках. Мне накладывали повязки со стрептоцидом, было сильное нагноение, осколок подрезал снизу под чашечкой коленного сустава, и вовнутрь сустава набилась грязь. 20 июля я выписался из госпиталя и вернулся на передовую, но пробыл только два дня. Какая-то соринка осталась в глубине сустава и дала нагноение. Долечивался я с 23 июля до 5 августа в своем медсанбате, который назывался 520 отдельный медико-санитарный батальон. Тут я пробыл уже 14 дней, зато вылечился окончательно. 6 августа я опять был на передовой.
12 августа меня и командира стрелковой роты, к которой был придан наш минометный взвод, вызвали в штаб батальона. Мы пошли по зигзагообразным ходам сообщения в тыл, а на обратном склоне пошли по открытой местности. Это место с позиций противника не просматривалось. Через некоторое время впереди нас разорвался снаряд, а через минуту грохнул еще один взрыв позади нас. «Похоже на пристрелку, -сказал я. - Давай бежим!» Побежали к тому месту, где был первый взрыв. И точно, загрохотали взрывы почти на наших пятках. Мы упали, и у меня, как всегда при ранениях, все тело пронзило электричество. Обстрел больше не повторился. Видимо, противник заранее пристреливал местность для заградительного огня, на случай появления наших танков. Я был ранен осколком теперь уже в правую ногу, насквозь пропороло бедро чуть ниже ягодицы. Для перевязки использовал индивидуальный пакет, дошел до медпункта а там был отправлен в эвакогоспиталь 5453 в станицу Белореченскую Краснодарского края. В офицерской палате все шутили надо мной: вот, где, мол, Гитлер искал сердце-то у тебя! Я отвечал, что и сам немцам большей частью под зад поддаю, у меня минометы ротные, калибра, мины рвутся понизу. Лечился я здесь с середины августа по сентябрь 1943 года.
В октябре 1943 года я стал командиром минометного взвода в 900 горнострелковом полку 242 стрелковой дивизии. Во взводе оказались сибиряки, пожилые люди, лет на 10-15 постарше меня, а мне тогда было 30 лет. Их надо было обучать, чем я и занялся на Таманском полуострове. Занятия проходили успешно, мы нашли большое количество брошенных немцами мин, которые можно было использовать для стрельбы из наших минометов, только летели они на меньшее расстояние, чем наши мины (калибр их на меньше наших). Да и своих мин было у нас достаточно. Так что для практических стрельб был большой простор. По утрам мои охотники сибиряки постреливали уток из автоматов. Утки приплывали ночевать к берегу. В декабре 1943 года мы переправились с Таманского полуострова на Керченский полуостров. Переплывали пролив под огнем противника. Керченский пролив непрерывно подвергался обстрелу дальнобойной артиллерией немцев, снаряды рвались и далеко от нашего бота, и близко, но мы переплыли пролив благополучно. Там наши войска уже занимали плацдарм шириной около и глубиной до 4км. Под этим участком были огромные каменоломни. Здесь до войны были большие разработки камня-ракушечника, шла распиловка его электропилами, был электрический свет, были такие хода, по которым от Керчи до Феодосии можно было проехать под землей на автомашине. Теперь эти хода были завалены. Сейчас здесь, под землей, накапливались войска для решительного удара.
В подземелье мы спускались с зажженным телефонным кабелем, а там, в закутке, у нас был светильник-коптилка из патрона артиллерийского снаряда.
Отсюда мы выходили на боевые позиции ночью, а когда нам приходила смена, мы возвращались в свои каменоломни. Сибиряки восхищались природой Крыма, говорили, что здесь не надо никакого дома, можно всю зиму жить в палатке или шалаше. Я, однако, не был в восторге от этого курорта, простудился, и не мог громко говорить целых три месяца, что пробыл на Керченском полуострове. Находясь на боевых позициях, приходилось терпеть неудобства от ненастной погоды. Снег с дождем в сочетании с пронизывающим ветром создавали на нашей одежде ледяную корку. Это уже было добавкой к пулеметным ливням, разрывам снарядов и бомб. Послабление в климатических неполадках мы почувствовали в середине марта 1944г.
Однажды, возвращаясь с боевых позиций в свое пещерное убежище, я увидел девочку лет 10-11. вышедшую из катакомб на солнышко. Мне она показалась просто прозрачной, лицо белое-белое, синие прожилки на тонкой шее. Поговорить не удалось, приближалась вражеская авиация, и мы поспешили вниз, а там, в темноте, она исчезла. Зашел я к командиру стрелковой роты, к которой был придан наш минометный взвод, а он меня удивил новостью: старшина его роты принес в котелке парное молоко. Оказывается, по соседству есть жители, и даже живая корова в подземелье.
Так мы и воевали целых три месяца. Мы обстреливали немецкие окопы, они нас угощали тем же. Были и убитые, и раненые. Однажды в пополнение прибыл молоденький младший лейтенант. Дали ему взвод автоматчиков. Первое время я водил его на боевые позиции вместе с его взводом автоматчиков. Я хорошо изучил дорогу и предупреждал, чтобы шли один за другим, не отклонялись ни на шаг в сторону, а то у меня был случай во взводе, когда один солдат отклонился на шаг или два и подорвался на «хлопушке», сброшенной ночью с немецкого самолета. Кроме него получили ранения двое других, даже шедших правильно. Младший лейтенант был новичком на фронте, на каждый свист пули пригибался. Я ему говорил: «Не кланяйся каждой пуле, раз она просвистела, значит, уже пролетела мимо. А ту, которая окажется твоей или моей, мы не услышим. Она вопьется раньше звука». Автоматчиков назначали в боевое охранение. Как-то раз пошел и сам младший лейтенант с группой своих автоматчиков. К своему удивлению, он услышал русскую речь в немецком окопе. Это так его возмутило, что он схватился за гранату, угрожая бросить ее в окоп противника. Но стоящий рядом боец удержал его, сказав, что в дозоре шуметь нельзя.Младший лейтенант так растерялся, что вместо броска прижал гранату к животу. Раздался взрыв. Молодой офицер погиб, был ранен и тот, кто удерживал его от броска. Это был урок, как не надо действовать в пылу гнева, и как не надо вмешиваться в действия соседа, не вникнув в суть обстановки. Предохранительная чека гранаты была уже выдернута. Вообще уроков было много. Вот подрыв на «хлопушке» в моем взводе – тоже урок.
22 марта 1943 года было назначено наступление наших войск на позиции противника. Говорили, что командует операцией Андрей Иванович Еременко и Климент Ефремович Ворошилов. Все заняли свои места. Мы, ротные минометчики, вместе с пехотой, батальонные на некотором расстоянии позади нас. Мои сибиряки медвежатники заметно тушевались, все спрашивали меня, где я буду во время боя. Я им объяснял, что из окопов выйдем вместе, я даже раньше их. Кричать и командовать будет бесполезно, делать надо как я, а пробег до окопов противника надо сделать без остановки, сразу там открывать огонь, согласуясь с пехотой, занявшей позиции первыми.
Началась артиллерийская подготовка. Потом по сигналу ракеты вышла из окопов пехота и автоматчики. Враг очень скоро обрушился ответным огнем. Как будто нисколько не был подавлен нашей артподготовкой. Может быть, и заметили это с командного пункта Еременко и Ворошилов, но изменить ход событий уже никто не мог. Баталия началась и пошла, как было задумано. Пехота скрылась в дыму разрывов. Следующими поднялись в сотне метров от нас бойцы ПТР с длинными противотанковыми ружьями. Это и сигнал для нас. Мы, как было условлено, поднялись вровень с петеэровцами. Бежали к окопам, которые заняла наша пехота. Но обстрел был такой сильный, что в сплошных разрывах и дыму ничего не было видно. Минометчик ближайшего ко мне расчета был ранен в лицо, прострел был в одну щеку с вылетом в другую щеку. Он начал кружиться на одном месте. Я снял с него миномет и толкнул его в сторону окопов, из которых мы вышли. Сам побежал дальше, сделал несколько прыжков и упал, как-будто что под ноги попало, а по всему телу прошло электричество. Понял, что ранен. Боли не было, я вскочил и опять побежал. Заметил, что боец с коробкой мин за плечами удалился вперед. Меня опять подсекло повыше колена левой ноги. Я упал рядом с большой воронкой. Немного спустился в нее, полежал. Потом хотел подняться, но не смог, резкая боль в щиколотках обеих ног не дала встать. Решил подождать пока утихнет или удалится грохот огня. Подумал, как теперь смогу передвигаться. Сел и на руках приподнял туловище, руки переставил назад и сидя подтянулся. В пятках ног появилась боль. Но небольшая, терпеть можно. Потом лег на живот, приподнялся на руках, но протащиться вперед не смог, боль в щиколотках резкая. Попробовал на боку, получилось легче. Так и остался полежать на правом боку. Показалось мне, что грохот утихает, незаметно для себя заснул. Через какое-то время пришел в себя от резкой боли в щиколотках обеих ног. Оказалось, что меня втянули в траншею два наших санитара и ушибли ноги. Хотели снимать сапоги, но я не дался. Тогда голенище разрезали. У правой ноги рана была в передней части голени, а у левой ноги было две раны, одна рана сбоку ноги. А вторая сзади, в ногах что-ли мина разорвалась? Мне и показалось как-будто я споткнулся обо что-то во время ранения. Еще дополнительно левая нога была ранена пулей повыше колена: аккуратная дырка справа, и побольше отверстие на выходе пули с левой стороны ноги. Все это мне забинтовали. Я спросил, кто меня приволок сюда, к окопам? Оказалось, что никто меня не тащил, сам добирался. Но через бруствер окопа перевалить не смог, только руки положил на бруствер. Когда меня втащили в траншею, я и опомнился. Теперь после перевязки один санитар взял меня на «кукорки» и понес в медпункт. Там сделали укол от столбняка и отправили уже на носилках к переправе Керченского пролива. Потом в трюме небольшого бота меня вместе с другими ранеными перевезли на Таманский полуостров. Тут, в огромном сарае, была операционная. Меня переложили с носилок на матрац, принесли большую стеклянную банку с прозрачной жидкостью и стали мне ее вливать. После этого вливания меня стала трясти лихорадка. Все тело подпрыгивало на матраце. Я хотел сжать зубы, удержать дрожь, но не мог, все тряслось. Хоть упасть я не боялся, матрац лежал прямо на полу, через некоторое время дрожь прекратилась, меня взяли на операционный стол, удалили осколки из раны, забинтовали и отправили на лечение в госпиталь. Это оказался тот самый эвакогоспиталь 5453, в котором я лечился по предыдущему, четвертому ранению. Врач Анна Игнатьевна Попова приняла меня как родного. Она, должно быть, запомнила меня по тем позорным позам, когда я показывал ей голый зад во время перевязок. Тогда она всякий раз шутливо спрашивала: «Да кто это у меня?» И я тихо называл свою фамилию. Сейчас я уверенно доложил ей, что мое ранение (пятое во время войны) теперь вполне достойное настоящего воина, и не будет причин для насмешек в офицерской палате. На этот раз лечился я долго, с марта месяца до июня, и выписался, прихрамывая на правую ногу.
В июне был направлен в г. Ростов в 60 ОПРОС СКВО (60-й отдельный полк резерва офицерского состава Северо-Кавказского военного округа). Пробыл там до ноября 1944 г., а 1 ноября снова пришлось лечиться в госпитале 1602: открылась рана. Пролежал до 30 ноября. В декабре меня направили в Сталинград, в 50 запасной полк 15-й стрелковой дивизии. Так, после тяжелой, мучительной трепки, после пяти ранений, я стал штабником наподобие того, который отправлял меня в 894 стрелковый полк в 1941 году. Должность моя была - командир маршевой роты, звание – лейтенант. Я формировал и отправлял на фронт маршевые роты. Сталинград был не похож на тот красивый город, который был в 1941 году, лежал в развалинах.
Там я и встретил ДЕНЬ ПОБЕДЫ 1945 года.
12 января получил назначение в Астраханский областной военкомат на должность помощника начальника общей части по секретному делопроизводству.
7 августа был уволен в запас.
В огне сражений погиб мой брат Николай в битве на Курской дуге, а в обороне Сталинграда участвовал мой брат Михаил. Он был ранен. Лечился в госпитале в городе Вольске Саратовской области. После лечения участвовал в боях при форсировании Днепра. Оттуда прислал письмо маме: «Готовимся к форсированию Днепра. Если останусь жив, побреюсь первый раз в жизни». Это было летом. Больше писем от него не было, а пришло извещение о его гибели, а было ему в то время только 20 лет.
Как я остался жив – сам удивляюсь!
На мой взгляд - это уникальное произведение, подобных ей трудно найти в военных библиотеках. Оно замечательно не только литературными достоинствами, о которых я, не будучи литературоведом, не могу объективно судить, сколько точными до натурализма описаниями военных событий, раскрывающими отвратительную сущность войны с ее зверской бесчеловечностью, грязью, бессмысленной жестокостью, преступным небрежением к жизни людей командующими всех рангов от комбатов до верховного главнокомандующего. Это - документ для тех историков, которые изучают не только передвижения войск на театрах военных действий, но интересуются и морально-гуманистическими аспектами войны.
По уровню достоверности и искренности изложения могу лишь сравнить ее с воспоминаниями Шумилина «Ванька ротный».
Читать ее так же тяжело, как смотреть на изуродованный труп человека, только что стоявшего рядом…
У меня при чтении этой книги память непроизвольно восстанавливала почти забытые аналогичные картины прошедшего.
Никулин «хлебнул» на войне несоизмеримо больше, чем я, пережив ее от начала и до конца, побывав на одном из самых кровавых участков фронта: в тихвинских болотах, где наши «славные стратеги» уложили не одну армию, включая 2-ю Ударную... И все же осмелюсь заметить, что многие его переживания и ощущения очень сходны с моими.
Некоторые высказывания Николая Николаевича побудили меня их прокомментировать, что я и делаю ниже, приводя цитаты из книги.
Главный вопрос, явно или неявно встающий при чтении книг о войне - что заставляло роты, батальоны и полки безропотно идти навстречу почти неизбежной смерти, подчиняясь иногда даже преступным приказам командиров? В многочисленных томах ура-патриотической литературы это объясняется элементарно просто: воодушевленные любовью к своей социалистической родине и ненавистью к вероломному врагу, они были готовы отдать жизнь за победу над ним и единодушно поднимались в атаку по призыву «Ура! За Родину, за Сталина!»
Н.Н. Никулин:
«Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО!
Вежливо выслушивали напутствие политруков — малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц — и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому, что НАДО. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа... Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. До Сталина ли было, когда смерть рядом. Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные.
Остались у власти и сохранили силы другие — те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь...»
И я вспоминаю.
В октябре 1943 года нашу 4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию срочно выдвинули на передовую с тем, чтобы закрыть образовавшуюся брешь после попытки неудачного прорыва фронта пехотой. Примерно неделю дивизия держала оборону в районе белорусского города Хойники. Я в то время работал на дивизионной радиостанции «РСБ-Ф» и об интенсивности боевых действий мог судить только по числу едущих на бричках и идущих пешком в тыл раненых.
Принимаю радиограмму. После длинного шифра-цифири открытым текстом слова «Смена белья». Кодированный текст уйдет к шифровальщику штаба, а эти слова предназначены корпусным радистом мне, принимающему радиограмму. Они означают, что нам на смену идёт пехота.
И действительно, мимо рации, стоящей на обочине лесной дороги, уже шли стрелковые части. Это была какая-то изрядно потрепанная в боях дивизия, отведенная с фронта на непродолжительный отдых и пополнение. Не соблюдая строя шли солдаты с подвернутыми под ремень полами шинелей (была осенняя распутица), казавшиеся горбатыми из-за накинутых поверх вещмешков плащ-палаток.
Меня поразил их понурый, обреченный вид. Я понял, через час-другой они будут уже на переднем крае…
Пишет Н.Н. Никулин:
«Шум, грохот, скрежет, вой, бабаханье, уханье — адский концерт. А по дороге, в серой мгле рассвета, бредет на передовую пехота. Ряд за рядом, полк за полком. Безликие, увешанные оружием, укрытые горбатыми плащ-палатками фигуры. Медленно, но неотвратимо шагали они вперед, к собственной гибели. Поколение, уходящее в вечность. В этой картине было столько обобщающего смысла, столько апокалиптического ужаса, что мы остро ощутили непрочность бытия, безжалостную поступь истории. Мы почувствовали себя жалкими мотыльками, которым суждено сгореть без следа в адском огне войны.»
Тупая покорность и сознательная обреченность советских солдат, атакующих недоступные для фронтального штурма укрепленные позиции поражали даже наших противников. Никулин приводит рассказ немецкого ветерана, сражавшегося на том же участке фронта, но с другой его стороны.
Некий господин Эрвин X., с которым он встретился в Баварии, рассказывает:
—Что за странный народ? Мы наложили под Синявино вал из трупов высотою около двух метров, а они все лезут и лезут под пули, карабкаясь через мертвецов, а мы все бьем и бьем, а они все лезут и лезут... А какие грязные были пленные! Сопливые мальчишки плачут, а хлеб у них в мешках отвратительный, есть невозможно!
А что делали ваши в Курляндии? — продолжает он. — Однажды массы русских войск пошли в атаку. Но их встретили дружным огнем пулеметов и противотанковых орудий. Оставшиеся в живых стали откатываться назад. Но тут из русских траншей ударили десятки пулеметов и противотанковые пушки. Мы видели, как метались, погибая, на нейтральной полосе толпы ваших обезумевших от ужаса солдат!
Это - о заградотрядах.
В дискуссии на военно-историческом форуме «ВИФ-2
NE
» не кто иной, как сам В. Карпов - герой Советского Союза, в прошлом ЗЕК, штрафник-разведчик, автор известных биографических романов о полководцах, заявил, что не было и не могло быть случаев расстрела заградотрядами отступающих красноармейцев. «Да мы бы сами их постреляли», заявил он. Мне пришлось возразить, несмотря на высокий авторитет писателя, сославшись на свою встречу с этими вояками по пути в медсанэскадрон. В результате получил немало оскорбительных замечаний. Можно найти немало свидетельств о том, как мужественно воевали войска НКВД на фронтах. Но об их деятельности в качестве заградотрядов, встречать не приходилось.
В комментариях к моим высказываниям и в гостевой книге моего сайта (http
://
ldb
1.
narod
.
ru
) часто встречаются слова о том, что ветераны - родственники авторов комментариев категорически отказываются вспоминать о своем участии в войне и, тем более, писать об этом. Я думаю, книга Н.Н. Никулина объясняет это достаточно убедительно.
На сайте Артема Драбкина «Я помню» (www.iremember.ru
)
огромная коллекция мемуаров участников войны. Но крайне редко встречаются искренние рассказы о том, что переживал солдат-окопник на переднем крае на грани жизни и неизбежной, как ему казалось, смерти.
В 60-х годах прошлого века, когда писал свою книгу Н.Н. Никулин, в памяти солдат, чудом оставшихся в числе живых после пребывания на переднем крае фронта, пережитое еще было столь же свежим, как открытая рана. Естественно, вспоминать об этом было больно. И я, к кому судьба была более милостива, смог принудить себя взяться за перо лишь в 1999 году.
Н.Н. Никулин:
«Мемуары, мемуары... Кто их пишет? Какие мемуары могут быть у тех, кто воевал на самом деле? У летчиков, танкистов и прежде всего у пехотинцев?
Ранение — смерть, ранение — смерть, ранение — смерть и все! Иного не было. Мемуары пишут те, кто был около войны. Во втором эшелоне, в штабе. Либо продажные писаки, выражавшие официальную точку зрения, согласно которой мы бодро побеждали, а злые фашисты тысячами падали, сраженные нашим метким огнем. Симонов, «честный писатель», что он видел? Его покатали на подводной лодке, разок он сходил в атаку с пехотой, разок — с разведчиками, поглядел на артподготовку — и вот уже он «все увидел» и «все испытал»! (Другие, правда, и этого не видели.)
Писал с апломбом, и все это — прикрашенное вранье. А шолоховское «Они сражались за Родину» — просто агитка! О мелких шавках и говорить не приходится.»
В рассказах настоящих фронтовиков-окопников нередко звучит ярко выраженная неприязнь, граничащая с враждебностью, к обитателям различных штабов и тыловых служб. Это читается и у Никулина и у Шумилина, презрительно называвшего их «полковые».
Никулин:
«Поразительная разница существует между передовой, где льется кровь, где страдание, где смерть, где не поднять головы под пулями и осколками, где голод и страх, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, — и тылами. Здесь, в тылу, другой мир. Здесь находится начальство, здесь штабы, стоят тяжелые орудия, расположены склады, медсанбаты. Изредка сюда долетают снаряды или сбросит бомбу самолет. Убитые и раненые тут редкость. Не война, а курорт! Те, кто на передовой — не жильцы. Они обречены. Спасение им — лишь ранение. Те, кто в тылу, останутся живы, если их не переведут вперед, когда иссякнут ряды наступающих. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют!
Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои! И то, что война — ужас, смерть, голод, подлость, подлость и подлость, отойдет на второй план. Настоящие же фронтовики, которых осталось полтора человека, да и те чокнутые, порченые, будут молчать в тряпочку. А начальство, которое тоже в значительной мере останется в живых, погрязнет в склоках: кто воевал хорошо, кто плохо, а вот если бы меня послушали!»
Жестокие слова, но во многом оправданы. Пришлось мне некоторое время послужить при штабе дивизии в эскадроне связи, насмотрелся на франтоватых штабных офицеров. Не исключено, что из-за конфликта с одним из них я был отправлен во взвод связи 11-го кавалерийского полка (http://ldb1.narod.ru/simple39_.html
)
Мне уже приходилось высказываться на очень болезненную тему о страшной судьбе женщин на войне. И опять это обернулось мне оскорблениями: молодые родственники воевавших мам и бабушек посчитали, что я надругался над их военными заслугами.
Когда еще до ухода на фронт я видел, как, под влиянием мощной пропаганды юные девушки с энтузиазмом записывались на курсы радистов, медсестер или снайперов, а затем уже на фронте - как им приходилось расставаться с иллюзиями и девичьей гордостью, мне, неискушенному в жизни мальчишке было очень больно за них. Рекомендую роман М. Кононова «Голая пионерка», это о том же.
И вот что пишет Н.Н. Никулин.
««Не женское это дело — война. Спору нет, было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам. Но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. И если бы только это! Тяжело им было в окружении мужиков. Голодным солдатам, правда, было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус: и спеть, и сплясать, и красно поговорить, а для образованных — почитать Блока или Лермонтова... И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кажется, это называлось на языке военных канцелярий «уехать по приказу 009». В нашей части из пятидесяти прибывших в 1942 году к концу войны осталось только два солдата прекрасного пола. Но «уехать по приказу 009» — это самый лучший выход.
Бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ (Полевая передвижная жена. Аббревиатура ППЖ имела в солдатском лексиконе и другое значение. Так называли голодные и истощенные солдаты пустую, водянистую похлебку: «Прощай, половая жизнь»), а если сопротивлялись — на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду! Потом крошка шла по рукам, доставалась разным помам и замам. В лучших азиатских традициях!»
Среди моих однополчан была замечательная отважная женщина санинструктор эскадрона Маша Самолетова. О ней у меня на сайте рассказ Марата Шпилёва «Её звали Москва». А на встрече ветеранов в Армавире я видел, как плакали солдаты, которых она вытащила с поля боя. Она пришла на фронт по комсомольскому призыву, оставив балет, где она начала работать. Но и она не устояла под напором армейских донжуанов, о чем сама мне рассказывала.
И последнее, о чем следует рассказать.
Н.Н. Никулин:
«Казалось, все испытано: смерть, голод, обстрелы, непосильная работа, холод. Так ведь нет! Было еще нечто очень страшное, почти раздавившее меня. Накануне перехода на территорию Рейха, в войска приехали агитаторы. Некоторые в больших чинах.
— Смерть за смерть!!! Кровь за кровь!!! Не забудем!!! Не простим!!! Отомстим!!! — и так далее...
До этого основательно постарался Эренбург, чьи трескучие, хлесткие статьи все читали: «Папа, убей немца!» И получился нацизм наоборот.
Правда, те безобразничали по плану: сеть гетто, сеть лагерей. Учет и составление списков награбленного. Реестр наказаний, плановые расстрелы и т. д. У нас все пошло стихийно, по-славянски. Бей, ребята, жги, глуши!
Порти ихних баб! Да еще перед наступлением обильно снабдили войска водкой. И пошло, и пошло! Пострадали, как всегда, невинные. Бонзы, как всегда, удрали... Без разбору жгли дома, убивали каких-то случайных старух, бесцельно расстреливали стада коров. Очень популярна была выдуманная кем-то шутка: «Сидит Иван около горящего дома. "Что ты делаешь?"- спрашивают его. "Да вот, портяночки надо было просушить, костерок развел"»... Трупы, трупы, трупы. Немцы, конечно, подонки, но зачем же уподобляться им? Армия унизила себя. Нация унизила себя. Это было самое страшное на войне. Трупы, трупы...
На вокзал города Алленштайн, который доблестная конница генерала Осликовского захватила неожиданно для противника, прибыло несколько эшелонов с немецкими беженцами. Они думали, что едут в свой тыл, а попали... Я видел результаты приема, который им оказали. Перроны вокзала были покрыты кучами распотрошенных чемоданов, узлов, баулов. Повсюду одежонка, детские вещи, распоротые подушки. Все это в лужах крови...
«Каждый имеет право послать раз в месяц посылку домой весом в двенадцать килограммов», — официально объявило начальство. И пошло, и пошло! Пьяный Иван врывался в бомбоубежище, трахал автоматом об стол и, страшно вылупив глаза, орал: «УРРРРР!( Uhr - часы) Гады!» Дрожащие немки несли со всех сторон часы, которые сгребали в «сидор» и уносили. Прославился один солдатик, который заставлял немку держать свечу (электричества не было), в то время, как он рылся в ее сундуках. Грабь! Хватай! Как эпидемия, эта напасть захлестнула всех... Потом уже опомнились, да поздно было: черт вылетел из бутылки. Добрые, ласковые русские мужики превратились в чудовищ. Они были страшны в одиночку, а в стаде стали такими, что и описать невозможно!»
Здесь, как говорится, комментарии излишни.
Скоро отметим замечательный народный праздник, День Победы. Он несет в себе не только радость в связи с годовщиной окончания страшной войны, унесшей каждого 8-го жителя нашей страны (в среднем!), но и слезы по не вернувшимся оттуда… Хотелось бы также помнить о непомерной цене, которую пришлось заплатить народу под «мудрым руководством» величайшего полководца всех времен и народов». Ведь забылось уже, что он наделил себя званием генералиссимуса и этим титулом!
Мы собрали для вас самые яркие воспоминания женщин-ветеранов из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».
Спонсор поста: https://znak-master.ru/

1. "Ехали много суток... Вышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. Поют. Машут нам - кто косынками, кто пилотками. Стало понятно: мужиков не хватает, полегли они, в земле. Или в плену. Теперь мы вместо них... Мама написала мне молитву. Я положила ее в медальон. Может, и помогло - я вернулась домой. Я перед боем медальон целовала..."
«Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый. «Не ходи, убьют, — не пускали меня бойцы, — видишь, уже светает». Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому: «Заслуживает награды». В девятнадцать лет у меня была медаль «За отвагу». В девятнадцать лет поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги… И меня посчитали убитой… В девятнадцать лет… У меня внучка сейчас такая. Смотрю на нее — и не верю. Дите!»

2. "У меня было ночное дежурство... Зашла в палату тяжелораненых. Лежит капитан... Врачи предупредили меня перед дежурством, что ночью он умрет... Не дотянет до утра... Спрашиваю его: "Ну, как? Чем тебе помочь?" Никогда не забуду... Он вдруг улыбнулся, такая светлая улыбка на измученном лице: "Расстегни халат... Покажи мне свою грудь... Я давно не видел жену..." Мне стало стыдно, я что-то там ему отвечала. Ушла и вернулась через час. Он лежит мертвый. И та улыбка у него на лице..."
«И когда он появился третий раз, это же одно мгновенье — то появится, то скроется, — я решила стрелять. Решилась, и вдруг такая мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но человек, и у меня как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь, озноб. Какой-то страх… Ко мне иногда во сне и сейчас возвращается это ощущение… После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно. Я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. Как будто он близко… И внутри у меня что-то противится… Что-то не дает, не могу решиться. Но я взяла себя в руки, нажала спусковой крючок… Не сразу у нас получилось. Не женское это дело — ненавидеть и убивать. Не наше… Надо было себя убеждать. Уговаривать…»

3. "И девчонки рвались на фронт добровольно, а трус сам воевать не пойдет. Это были смелые, необыкновенные девчонки. Есть статистика: потери среди медиков переднего края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. В пехоте. Что такое, например, вытащить раненого с поля боя? Я вам сейчас расскажу... Мы поднялись в атаку, а нас давай косить из пулемета. И батальона не стало. Все лежали. Они не были все убиты, много раненых. Немцы бьют, огня не прекращают. Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает сначала одна девчонка, потом вторая, третья... Они стали перевязывать и оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то время онемели от изумления. К часам десяти вечера все девчонки были тяжело ранены, а каждая спасла максимум два-три человека. Награждали их скупо, в начале войны наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? В начале войны его не хватало. Винтовку, автомат, пулемет - это тоже надо было тащить. В сорок первом был издан приказ номер двести восемьдесят один о представлении к награждению за спасение жизни солдат: за пятнадцать тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием - медаль "За боевые заслуги", за спасение двадцати пяти человек - орден Красной Звезды, за спасение сорока - орден Красного Знамени, за спасение восьмидесяти - орден Ленина. А я вам описал, что значило спасти в бою хотя бы одного... Из-под пуль..."
«Что в наших душах творилось, таких людей, какими мы были тогда, наверное, больше никогда не будет. Никогда! Таких наивных и таких искренних. С такой верой! Когда знамя получил наш командир полка и дал команду: «Полк, под знамя! На колени!», все мы почувствовали себя счастливыми. Стоим и плачем, у каждой слезы на глазах. Вы сейчас не поверите, у меня от этого потрясения весь мой организм напрягся, моя болезнь, а я заболела «куриной слепотой», это у меня от недоедания, от нервного переутомления случилось, так вот, моя куриная слепота прошла. Понимаете, я на другой день была здорова, я выздоровела, вот через такое потрясение всей души…»
«Меня ураганной волной отбросило к кирпичной стене. Потеряла сознание… Когда пришла в себя, был уже вечер. Подняла голову, попробовала сжать пальцы — вроде двигаются, еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вся в крови. В коридоре встречаю нашу старшую сестру, она не узнала меня, спросила: «Кто вы? Откуда?» Подошла ближе, ахнула и говорит: «Где тебя так долго носило, Ксеня? Раненые голодные, а тебя нет». Быстро перевязали голову, левую руку выше локтя, и я пошла получать ужин. В глазах темнело, пот лился градом. Стала раздавать ужин, упала. Привели в сознание, и только слышится: «Скорей! Быстрей!» И опять — «Скорей! Быстрей!» Через несколько дней у меня еще брали для тяжелораненых кровь».

4. "Мы же молоденькие совсем на фронт пошли. Девочки. Я за войну даже подросла. Мама дома померила... Я подросла на десять сантиметров..."
«Организовали курсы медсестер, и отец отвел нас с сестрой туда. Мне — пятнадцать лет, а сестре — четырнадцать. Он говорил: «Это все, что я могу отдать для победы. Моих девочек…» Другой мысли тогда не было. Через год я попала на фронт…»
«У нашей матери не было сыновей… А когда Сталинград был осажден, добровольно пошли на фронт. Все вместе. Вся семья: мама и пять дочерей, а отец к этому времени уже воевал…»

5. "Меня мобилизовали, я была врач. Я уехала с чувством долга. А мой папа был счастлив, что дочь на фронте. Защищает Родину. Папа шел в военкомат рано утром. Он шел получать мой аттестат и шел рано утром специально, чтобы все в деревне видели, что дочь у него на фронте..."
«Помню, отпустили меня в увольнение. Прежде чем пойти к тете, я зашла в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю:
— Дайте мне конфет.
Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала: что такое — карточки, что такое — блокада? Все люди в очереди повернулись ко мне, а у меня винтовка больше, чем я. Когда нам их выдали, я посмотрела и думаю: «Когда я дорасту до этой винтовки?» И все вдруг стали просить, вся очередь:
— Дайте ей конфет. Вырежьте у нас талоны.
И мне дали».

«И у меня впервые в жизни случилось… Наше… Женское… Увидела я у себя кровь, как заору:
— Меня ранило…
В разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. Он ко мне:
— Куда ранило?
— Не знаю куда… Но кровь…
Мне он, как отец, все рассказал… Я ходила в разведку после войны лет пятнадцать. Каждую ночь. И сны такие: то у меня автомат отказал, то нас окружили. Просыпаешься — зубы скрипят. Вспоминаешь — где ты? Там или здесь?»

7. "Уезжала я на фронт материалисткой. Атеисткой. Хорошей советской школьницей уехала, которую хорошо учили. А там... Там я стала молиться... Я всегда молилась перед боем, читала свои молитвы. Слова простые... Мои слова... Смысл один, чтобы я вернулась к маме и папе. Настоящих молитв я не знала, и не читала Библию. Никто не видел, как я молилась. Я - тайно. Украдкой молилась. Осторожно. Потому что... Мы были тогда другие, тогда жили другие люди. Вы - понимаете?"
«Формы на нас нельзя было напастись: всегда в крови. Мой первый раненый — старший лейтенант Белов, мой последний раненый — Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного взвода. В семидесятом году он приезжал ко мне в гости, и дочерям я показала его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. Всего из-под огня я вынесла четыреста восемьдесят одного раненого. Кто-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон… Таскали на себе мужчин, в два-три раза тяжелее нас. А раненые они еще тяжелее. Его самого тащишь и его оружие, а на нем еще шинель, сапоги. Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь… Идешь за следующим, и опять семьдесят-восемьдесят килограммов… И так раз пять-шесть за одну атаку. А в тебе самой сорок восемь килограммов — балетный вес. Сейчас уже не верится…»

«Я потом стала командиром отделения. Все отделение из молодых мальчишек. Мы целый день на катере. Катер небольшой, там нет никаких гальюнов. Ребятам по необходимости можно через борт, и все. Ну, а как мне? Пару раз я до того дотерпелась, что прыгнула прямо за борт и плаваю. Они кричат: «Старшина за бортом!» Вытащат. Вот такая элементарная мелочь… Но какая это мелочь? Я потом лечилась…
«Вернулась с войны седая. Двадцать один год, а я вся беленькая. У меня тяжелое ранение было, контузия, я плохо слышала на одно ухо. Мама меня встретила словами: «Я верила, что ты придешь. Я за тебя молилась день и ночь». Брат на фронте погиб. Она плакала: «Одинаково теперь — рожай девочек или мальчиков».

9. "А я другое скажу... Самое страшное для меня на войне - носить мужские трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то... Я не выражусь... Ну, во-первых, очень некрасиво... Ты на войне, собираешься умереть за Родину, а на тебе мужские трусы. В общем, ты выглядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы тогда носили длинные. Широкие. Шили из сатина. Десять девочек в нашей землянке, и все они в мужских трусах. О, Боже мой! Зимой и летом. Четыре года... Перешли советскую границу... Добивали, как говорил на политзанятиях наш комиссар, зверя в его собственной берлоге. Возле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и... И! И! И! Привезли в первый раз женские трусы и бюстгальтеры. За всю войну в первый раз. Ха-а-а... Ну, понятно... Мы увидели нормальное женское белье... Почему не смеешься? Плачешь... Ну, почему?"
«В восемнадцать лет на Курской Дуге меня наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды, в девятнадцать лет — орденом Отечественной войны второй степени. Когда прибывало новое пополнение, ребята были все молодые, конечно, они удивлялись. Им тоже по восемнадцать-девятнадцать лет, и они с насмешкой спрашивали: «А за что ты получила свои медали?» или «А была ли ты в бою?» Пристают с шуточками: «А пули пробивают броню танка?» Одного такого я потом перевязывала на поле боя, под обстрелом, я и фамилию его запомнила — Щеголеватых. У него была перебита нога. Я ему шину накладываю, а он у меня прощения просит: «Сестричка, прости, что я тебя тогда обидел…»

«Замаскировались. Сидим. Ждем ночи, чтобы все-таки сделать попытку прорваться. И лейтенант Миша Т., комбат был ранен, и он выполнял обязанности комбата, лет ему было двадцать, стал вспоминать, как он любил танцевать, играть на гитаре. Потом спрашивает:
— Ты хоть пробовала?
— Чего? Что пробовала? — А есть хотелось страшно.
— Не чего, а кого… Бабу!
А до войны пирожные такие были. С таким названием.
— Не-е-ет…
— И я тоже еще не пробовал. Вот умрешь и не узнаешь, что такое любовь… Убьют нас ночью…
— Да пошел ты, дурак! — До меня дошло, о чем он.
Умирали за жизнь, еще не зная, что такое жизнь. Обо всем еще только в книгах читали. Я кино про любовь любила…»

11. "Она заслонила от осколка мины любимого человека. Осколки летят - это какие-то доли секунды... Как она успела? Она спасла лейтенанта Петю Бойчевского, она его любила. И он остался жить. Через тридцать лет Петя Бойчевский приехал из Краснодара и нашел меня на нашей фронтовой встрече, и все это мне рассказал. Мы съездили с ним в Борисов и разыскали ту поляну, где Тоня погибла. Он взял землю с ее могилы... Нес и целовал... Было нас пять, конаковских девчонок... А одна я вернулась к маме..."
«Был организован Отдельный отряд дымомаскировки, которым командовал бывший командир дивизиона торпедных катеров капитан-лейтенант Александр Богданов. Девушки, в основном, со средне-техническим образованием или после первых курсов института. Наша задача — уберечь корабли, прикрывать их дымом. Начнется обстрел, моряки ждут: «Скорей бы девчата дым повесили. С ним поспокойнее». Выезжали на машинах со специальной смесью, а все в это время прятались в бомбоубежище. Мы же, как говорится, вызывали огонь на себя. Немцы ведь били по этой дымовой завесе…»

12. "Перевязываю танкиста... Бой идет, грохот. Он спрашивает: "Девушка, как вас зовут?" Даже комплимент какой-то. Мне так странно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе свое имя - Оля".
«И вот я командир орудия. И, значит, меня — в тысяча триста пятьдесят седьмой зенитный полк. Первое время из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное… Горло пересыхало до рвоты… Ночью еще не так страшно, а днем очень страшно. Кажется, что самолет прямо на тебя летит, именно на твое орудие. На тебя таранит! Это один миг… Сейчас он всю, всю тебя превратит ни во что. Все — конец!»

13. "И пока меня нашли, я сильно отморозила ноги. Меня, видимо, снегом забросало, но я дышала, и образовалось в снегу отверстие... Такая трубка... Нашли меня санитарные собаки. Разрыли снег и шапку-ушанку мою принесли. Там у меня был паспорт смерти, у каждого были такие паспорта: какие родные, куда сообщать. Меня откопали, положили на плащ-палатку, был полный полушубок крови... Но никто не обратил внимания на мои ноги... Шесть месяцев я лежала в госпитале. Хотели ампутировать ногу, ампутировать выше колена, потому что начиналась гангрена. И я тут немножко смалодушничала, не хотела оставаться жить калекой. Зачем мне жить? Кому я нужна? Ни отца, ни матери. Обуза в жизни. Ну, кому я нужна, обрубок! Задушусь..."
«Там же получили танк. Мы оба были старшими механиками-водителями, а в танке должен быть только один механик-водитель. Командование решило назначить меня командиром танка «ИС-122″, а мужа — старшим механиком-водителем. И так мы дошли до Германии. Оба ранены. Имеем награды. Было немало девушек-танкисток на средних танках, а вот на тяжелом — я одна».

14. "Нам сказали одеть все военное, а я метр пятьдесят. Влезла в брюки, и девочки меня наверху ими завязали".
«Пока он слышит… До последнего момента говоришь ему, что нет-нет, разве можно умереть. Целуешь его, обнимаешь: что ты, что ты? Он уже мертвый, глаза в потолок, а я ему что-то еще шепчу… Успокаиваю… Фамилии вот стерлись, ушли из памяти, а лица остались… »
«У нас попала в плен медсестра… Через день, когда мы отбили ту деревню, везде валялись мертвые лошади, мотоциклы, бронетранспортеры. Нашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана… Ее посадили на кол… Мороз, и она белая-белая, и волосы все седые. Ей было девятнадцать лет. В рюкзаке у нее мы нашли письма из дома и резиновую зеленую птичку. Детскую игрушку…»

«Под Севском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. И я еще в этот день выносила раненых с их оружием. К последнему подползла, а у него рука совсем перебита. Болтается на кусочках… На жилах… В кровище весь… Ему нужно срочно отрезать руку, чтобы перевязать. Иначе никак. А у меня нет ни ножа, ни ножниц. Сумка телепалась-телепалась на боку, и они выпали. Что делать? И я зубами грызла эту мякоть. Перегрызла, забинтовала… Бинтую, а раненый: «Скорей, сестра. Я еще повоюю». В горячке…»
«Я всю войну боялась, чтобы ноги не покалечило. У меня красивые были ноги. Мужчине — что? Ему не так страшно, если даже ноги потеряет. Все равно — герой. Жених! А женщину покалечит, так это судьба ее решится. Женская судьба…»

16. "Мужчины разложат костер на остановке, трясут вшей, сушатся. А нам где? Побежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемся. У меня был свитерочек вязаный, так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке. Посмотришь, затошнит. Вши бывают головные, платяные, лобковые... У меня были они все..."

17. "Под Макеевкой, в Донбассе, меня ранило, ранило в бедро. Влез вот такой осколочек, как камушек, сидит. Чувствую - кровь, я индивидуальный пакет сложила и туда. И дальше бегаю, перевязываю. Стыдно кому сказать, ранило девчонку, да куда - в ягодицу. В попу... В шестнадцать лет это стыдно кому-нибудь сказать. Неудобно признаться. Ну, и так я бегала, перевязывала, пока не потеряла сознание от потери крови. Полные сапоги натекло..."
«Приехал врач, сделали кардиограмму, и меня спрашивают:
— Вы когда перенесли инфаркт?
— Какой инфаркт?
— У вас все сердце в рубцах.
А эти рубцы, видно, с войны. Ты заходишь над целью, тебя всю трясет. Все тело покрывается дрожью, потому что внизу огонь: истребители стреляют, зенитки расстреливают… Летали мы в основном ночью. Какое-то время нас попробовали посылать на задания днем, но тут же отказались от этой затеи. Наши «По-2″ подстреливали из автомата… Делали до двенадцати вылетов за ночь. Я видела знаменитого летчика-аса Покрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Это был крепкий мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам: пока самолет заправляли, техник успевал снять с него рубашку и выкрутить. С нее текло, как будто он под дождем побывал. Теперь можете легко себе представить, что творилось с нами. Прилетишь и не можешь даже из кабины выйти, нас вытаскивали. Не могли уже планшет нести, тянули по земле».

18. "Мы стремились... Мы не хотели, чтобы о нас говорили: "Ах, эти женщины!" И старались больше, чем мужчины, мы еще должны были доказать, что не хуже мужчин. А к нам долго было высокомерное, снисходительное отношение: "Навоюют эти бабы..."
«Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чем мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я об одном загадывала — дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что всегда на коленках ползешь, да еще под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта была! Приехал как-то командир дивизии, увидел меня и спрашивает: «А что это у вас за подросток? Что вы его держите? Его бы надо послать учиться».
«Мы были счастливы, когда доставали котелок воды вымыть голову. Если долго шли, искали мягкой травы. Рвали ее и ноги… Ну, понимаете, травой смывали… Мы же свои особенности имели, девчонки… Армия об этом не подумала… Ноги у нас зеленые были… Хорошо, если старшина был пожилой человек и все понимал, не забирал из вещмешка лишнее белье, а если молодой, обязательно выбросит лишнее. А какое оно лишнее для девчонок, которым надо бывает два раза в день переодеться. Мы отрывали рукава от нижних рубашек, а их ведь только две. Это только четыре рукава…»

«Идем… Человек двести девушек, а сзади человек двести мужчин. Жара стоит. Жаркое лето. Марш бросок — тридцать километров. Жара дикая… И после нас красные пятна на песке… Следы красные… Ну, дела эти… Наши… Как ты тут что спрячешь? Солдаты идут следом и делают вид, что ничего не замечают… Не смотрят под ноги… Брюки на нас засыхали, как из стекла становились. Резали. Там раны были, и все время слышался запах крови. Нам же ничего не выдавали… Мы сторожили: когда солдаты повесят на кустах свои рубашки. Пару штук стащим… Они потом уже догадывались, смеялись: «Старшина, дай нам другое белье. Девушки наше забрали». Ваты и бинтов для раненых не хватало… А не то, что… Женское белье, может быть, только через два года появилось. В мужских трусах ходили и майках… Ну, идем… В сапогах! Ноги тоже сжарились. Идем… К переправе, там ждут паромы. Добрались до переправы, и тут нас начали бомбить. Бомбежка страшнейшая, мужчины — кто куда прятаться. Нас зовут… А мы бомбежки не слышим, нам не до бомбежки, мы скорее в речку. К воде… Вода! Вода! И сидели там, пока не отмокли… Под осколками… Вот оно… Стыд был страшнее смерти. И несколько девчонок в воде погибло…»

20. "Наконец получили назначение. Привели меня к моему взводу... Солдаты смотрят: кто с насмешкой, кто со злом даже, а другой так передернет плечами - сразу все понятно. Когда командир батальона представил, что вот, мол, вам новый командир взвода, все сразу взвыли: "У-у-у-у..." Один даже сплюнул: "Тьфу!" А через год, когда мне вручали орден Красной Звезды, эти же ребята, кто остался в живых, меня на руках в мою землянку несли. Они мной гордились".
«Ускоренным маршем вышли на задание. Погода была теплая, шли налегке. Когда стали проходить позиции артиллеристов-дальнобойщиков, вдруг один выскочил из траншеи и закричал: «Воздух! Рама!» Я подняла голову и ищу в небе «раму». Никакого самолета не обнаруживаю. Кругом тихо, ни звука. Где же та «рама»? Тут один из моих саперов попросил разрешения выйти из строя. Смотрю, он направляется к тому артиллеристу и отвешивает ему оплеуху. Не успела я что-нибудь сообразить, как артиллерист закричал: «Хлопцы, наших бьют!» Из траншеи повыскакивали другие артиллеристы и окружили нашего сапера. Мой взвод, не долго думая, побросал щупы, миноискатели, вещмешки и бросился к нему на выручку. Завязалась драка. Я не могла понять, что случилось? Почему взвод ввязался в драку? Каждая минута на счету, а тут такая заваруха. Даю команду: «Взвод, стать в строй!» Никто не обращает на меня внимания. Тогда я выхватила пистолет и выстрелила в воздух. Из блиндажа выскочили офицеры. Пока всех утихомирили, прошло значительное время. Подошел к моему взводу капитан и спросил: «Кто здесь старший?» Я доложила. У него округлились глаза, он даже растерялся. Затем спросил: «Что тут произошло?» Я не могла ответить, так как на самом деле не знала причины. Тогда вышел мой помкомвзвода и рассказал, как все было. Так я узнала, что такое «рама», какое это обидное было слово для женщины. Что-то типа шлюхи. Фронтовое ругательство…»

21. "Про любовь спрашиваете? Я не боюсь сказать правду... Я была пэпэже, то, что расшифровывается "походно-полевая жена. Жена на войне. Вторая. Незаконная. Первый командир батальона... Я его не любила. Он хороший был человек, но я его не любила. А пошла к нему в землянку через несколько месяцев. Куда деваться? Одни мужчины вокруг, так лучше с одним жить, чем всех бояться. В бою не так страшно было, как после боя, особенно, когда отдых, на переформирование отойдем. Как стреляют, огонь, они зовут: "Сестричка! Сестренка!", а после боя каждый тебя стережет... Из землянки ночью не вылезешь... Говорили вам это другие девчонки или не признались? Постыдились, думаю... Промолчали. Гордые! А оно все было... Но об этом молчат... Не принято... Нет... Я, например, в батальоне была одна женщина, жила в общей землянке. Вместе с мужчинами. Отделили мне место, но какое оно отдельное, вся землянка шесть метров. Я просыпалась ночью от того, что махала руками, то одному дам по щекам, по рукам, то другому. Меня ранило, попала в госпиталь и там махала руками. Нянечка ночью разбудит: "Ты чего?" Кому расскажешь?"

22. "Мы его хоронили... Он лежал на плащ-палатке, его только-только убило. Немцы нас обстреливают. Надо хоронить быстро... Прямо сейчас... Нашли старые березы, выбрали ту, которая поодаль от старого дуба стояла. Самая большая. Возле нее... Я старалась запомнить, чтобы вернуться и найти потом это место. Тут деревня кончается, тут развилка... Но как запомнить? Как запомнить, если одна береза на наших глазах уже горит... Как? Стали прощаться... Мне говорят: "Ты - первая!" У меня сердце подскочило, я поняла... Что... Всем, оказывается, известно о моей любви. Все знают... Мысль ударила: может, и он знал? Вот... Он лежит... Сейчас его опустят в землю... Зароют. Накроют песком... Но я страшно обрадовалась этой мысли, что, может, он тоже знал. А вдруг и я ему нравилась? Как будто он живой и что-то мне сейчас ответит... Вспомнила, как на Новый год он подарил мне немецкую шоколадку. Я ее месяц не ела, в кармане носила. Сейчас до меня это не доходит, я всю жизнь вспоминаю... Этот момент... Бомбы летят... Он... Лежит на плащ-палатке... Этот момент... А я радуюсь... Стою и про себя улыбаюсь. Ненормальная. Я радуюсь, что он, может быть, знал о моей любви... Подошла и его поцеловала. Никогда до этого не целовала мужчину... Это был первый..."

23. "Как нас встретила Родина? Без рыданий не могу... Сорок лет прошло, а до сих пор щеки горят. Мужчины молчали, а женщины... Они кричали нам: "Знаем, чем вы там занимались! Завлекали молодыми п... наших мужиков. Фронтовые б... Сучки военные..." Оскорбляли по-всякому... Словарь русский богатый... Провожает меня парень с танцев, мне вдруг плохо-плохо, сердце затарахтит. Иду-иду и сяду в сугроб. "Что с тобой?" - "Да ничего. Натанцевалась". А это - мои два ранения... Это - война... А надо учиться быть нежной. Быть слабой и хрупкой, а ноги в сапогах разносились - сороковой размер. Непривычно, чтобы кто-то меня обнял. Привыкла сама отвечать за себя. Ласковых слов ждала, но их не понимала. Они мне, как детские. На фронте среди мужчин - крепкий русский мат. К нему привыкла. Подруга меня учила, она в библиотеке работала: "Читай стихи. Есенина читай".
«Ноги пропали… Ноги отрезали… Спасали меня там же, в лесу… Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги… Положили на стол, и нет йода. За шесть километров в другой партизанский отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Без наркоза. Без… Вместо наркоза — бутылка самогонки. Ничего не было, кроме обычной пилы… Столярной… У нас был хирург, он сам тоже без ног, он говорил обо мне, это другие врачи передали: «Я преклоняюсь перед ней. Я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Не вскрикнет». Я держалась… Я привыкла быть на людях сильной…»

Подбежав к машине, открыла дверку и стала докладывать:
— Товарищ генерал, по вашему приказанию…
Услышала:
— Отставить…
Вытянулась по стойке «смирно». Генерал даже не повернулся ко мне, а через стекло машины смотрит на дорогу. Нервничает и часто посматривает на часы. Я стою. Он обращается к своему ординарцу:
— Где же тот командир саперов?
Я снова попыталась доложить:
— Товарищ генерал…
Он наконец повернулся ко мне и с досадой:
— На черта ты мне нужна!
Я все поняла и чуть не расхохоталась. Тогда его ординарец первый догадался:
— Товарищ генерал, а может, она и есть командир саперов?
Генерал уставился на меня:
— Ты кто?
— Командир саперного взвода, товарищ генерал.
— Ты — командир взвода? — возмутился он.
— Это твои саперы работают?
— Так точно, товарищ генерал!
— Заладила: генерал, генерал…
Вылез из машины, прошел несколько шагов вперед, затем вернулся ко мне. Постоял, смерил глазами. И к своему ординарцу:
— Видал?

25. "Муж был старшим машинистом, а я машинистом. Четыре года в теплушке ездили, и сын вместе с нами. Он у меня за всю войну даже кошку не видел. Когда поймал под Киевом кошку, наш состав страшно бомбили, налетело пять самолетов, а он обнял ее: "Кисанька милая, как я рад, что я тебя увидел. Я не вижу никого, ну, посиди со мной. Дай я тебя поцелую". Ребенок... У ребенка все должно быть детское... Он засыпал со словами: "Мамочка, у нас есть кошка. У нас теперь настоящий дом".

26. "Лежит на траве Аня Кабурова... Наша связистка. Она умирает - пуля попала в сердце. В это время над нами пролетает клин журавлей. Все подняли головы к небу, и она открыла глаза. Посмотрела: "Как жаль, девочки". Потом помолчала и улыбнулась нам: "Девочки, неужели я умру?" В это время бежит наш почтальон, наша Клава, она кричит: "Не умирай! Не умирай! Тебе письмо из дома..." Аня не закрывает глаза, она ждет... Наша Клава села возле нее, распечатала конверт. Письмо от мамы: "Дорогая моя, любимая доченька..." Возле меня стоит врач, он говорит: "Это - чудо. Чудо!! Она живет вопреки всем законам медицины..." Дочитали письмо... И только тогда Аня закрыла глаза..."

27. "Пробыла я у него один день, второй и решаю: "Иди в штаб и докладывай. Я с тобой здесь останусь". Он пошел к начальству, а я не дышу: ну, как скажут, чтобы в двадцать четыре часа ноги ее не было? Это же фронт, это понятно. И вдруг вижу - идет в землянку начальство: майор, полковник. Здороваются за руку все. Потом, конечно, сели мы в землянке, выпили, и каждый сказал свое слово, что жена нашла мужа в траншее, это же настоящая жена, документы есть. Это же такая женщина! Дайте посмотреть на такую женщину! Они такие слова говорили, они все плакали. Я тот вечер всю жизнь вспоминаю... Что у меня еще осталось? Зачислили санитаркой. Ходила с ним в разведку. Бьет миномет, вижу - упал. Думаю: убитый или раненый? Бегу туда, а миномет бьет, и командир кричит: "Куда ты прешь, чертова баба!!" Подползу - живой... Живой!"
«Два года назад гостил у меня наш начальник штаба Иван Михайлович Гринько. Он уже давно на пенсии. За этим же столом сидел. Я тоже пирогов напекла. Беседуют они с мужем, вспоминают… О девчонках наших заговорили… А я как зареву: «Почет, говорите, уважение. А девчонки-то почти все одинокие. Незамужние. Живут в коммуналках. Кто их пожалел? Защитил? Куда вы подевались все после войны? Предатели!!» Одним словом, праздничное настроение я им испортила… Начальник штаба вот на твоем месте сидел. «Ты мне покажи, — стучал кулаком по столу, — кто тебя обижал. Ты мне его только покажи!» Прощения просил: «Валя, я ничего тебе не могу сказать, кроме слез».

28. "Я до Берлина с армией дошла... Вернулась в свою деревню с двумя орденами Славы и медалями. Пожила три дня, а на четвертый мама поднимает меня с постели и говорит: "Доченька, я тебе собрала узелок. Уходи... Уходи... У тебя еще две младших сестры растут. Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты четыре года была на фронте, с мужчинами... " Не трогайте мою душу. Напишите, как другие, о моих наградах..."

29. "Под Сталинградом... Тащу я двух раненых. Одного протащу - оставляю, потом - другого. И так тяну их по очереди, потому что очень тяжелые раненые, их нельзя оставлять, у обоих, как это проще объяснить, высоко отбиты ноги, они истекают кровью. Тут минута дорога, каждая минута. И вдруг, когда я подальше от боя отползла, меньше стало дыма, вдруг я обнаруживаю, что тащу одного нашего танкиста и одного немца... Я была в ужасе: там наши гибнут, а я немца спасаю. Я была в панике... Там, в дыму, не разобралась... Вижу: человек умирает, человек кричит... А-а-а... Они оба обгоревшие, черные. Одинаковые. А тут я разглядела: чужой медальон, чужие часы, все чужое. Эта форма проклятая. И что теперь? Тяну нашего раненого и думаю: "Возвращаться за немцем или нет?" Я понимала, что если я его оставлю, то он скоро умрет. От потери крови... И я поползла за ним. Я продолжала тащить их обоих... Это же Сталинград... Самые страшные бои. Самые-самые. Моя ты бриллиантовая... Не может быть одно сердце для ненависти, а второе - для любви. У человека оно одно".
«Кончилась война, они оказались страшно незащищенными. Вот моя жена. Она — умная женщина, и она к военным девушкам плохо относится. Считает, что они ехали на войну за женихами, что все крутили там романы. Хотя на самом деле, у нас же искренний разговор, это чаще всего были честные девчонки. Чистые. Но после войны… После грязи, после вшей, после смертей… Хотелось чего-то красивого. Яркого. Красивых женщин… У меня был друг, его на фронте любила одна прекрасная, как я сейчас понимаю, девушка. Медсестра. Но он на ней не женился, демобилизовался и нашел себе другую, посмазливее. И он несчастлив со своей женой. Теперь вспоминает ту, свою военную любовь, она ему была бы другом. А после фронта он жениться на ней не захотел, потому что четыре года видел ее только в стоптанных сапогах и мужском ватнике. Мы старались забыть войну. И девчонок своих тоже забыли…»

30. "Моя подруга... Не буду называть ее фамилии, вдруг обидится... Военфельдшер... Трижды ранена. Кончилась война, поступила в медицинский институт. Никого из родных она не нашла, все погибли. Страшно бедствовала, мыла по ночам подъезды, чтобы прокормиться. Но никому не признавалась, что инвалид войны и имеет льготы, все документы порвала. Я спрашиваю: "Зачем ты порвала?" Она плачет: "А кто бы меня замуж взял?" - "Ну, что же, - говорю, - правильно сделала". Еще громче плачет: "Мне бы эти бумажки теперь пригодились. Болею тяжело". Представляете? Плачет."
}