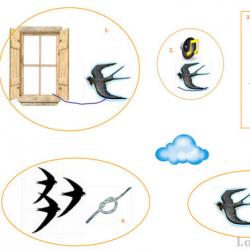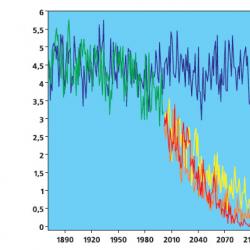Фадеев Александр Александрович. Разгром. Текст для сочинения ЕГЭ. (По А. Фадееву) Кто то схватил ниву под уздцы метчик
XVII. Девятнадцать В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост - там пролегал государственный тракт на Тудо Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте, верстах в восьми от моста. Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с приказом - остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним.
А через каких-нибудь десять минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на Тудо-Вакский тракт. Солнце уже поднялось над лесом.
Иней давно растаял. Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой.
День занялся теплый, непохожий на осенний. Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как бессилен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло плетущихся позади него. Они были еще единственно не безразличны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед ними; но он, казалось, не мог уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти Метелицы...
Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась, глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся, беззвучным и бесплотным роем... "Зачем эта длинная, бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... вак...
скую долину... как это странно - вак...скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать!
Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?.. Он говорит - дозор... Да, да, и дозор... у него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать... спать...
и даже не такая, как у моего сына, а... что?.." - Что ты сказал? - спросил он вдруг, подняв голову. Рядом с ним ехал Бакланов.
Я говорю, надо бы дозор послать. - Да, да, надо послать; распорядись, пожалуйста... Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью, Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом.
Потом еще кто-то проехал мимо. - Морозка!
Крикнул Бакланов вслед уезжавшему. Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду... "Разве он остался в живых? - подумал Левинсон.
А Дубов погиб... Бедный Дубов...
Но что же случилось с Морозкой?.. Ах, да - это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда..." Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом.
Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще хранившим багряную листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась к кустам.
На подъеме она пошла шагом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее.
Иногда он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился. Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то гибким прутьям...
Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. - Слезай!.. - сказал один придушенным свистящим шепотом.
Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся, - несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись наконец, побежал вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и делая невероятные прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты и кто-то ругался с злобными придыханиями... Морозка, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него.
Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остается одно непосредственное желание отдыха - отдыха во что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о Варе, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко, он даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей, - он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном.
Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, напнув на пятки теплую шинель... И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами, - это радостное видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь...
Сбежал, гад... - сказал Морозка, вдруг с необычайной ясностью представив себе противные и чистые глаза Мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости к себе и к людям, которые ехали позади него. Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать и двигаться, - он даже не мог представить себя в таком необычайном и странном положении, потому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался, - но он ясно понял, что никогда не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности... Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено...
В то же мгновенье что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову. Когда Левинсон услышал выстрелы, - они прозвучали так неожиданно и были так невозможны в теперешнем его состоянии, что он даже не воспринял их. Он только тогда понял их значение, когда раздался залп по Морозке, и лошади стали как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши. Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны, но в том едином, страшном, немо-вопрошающем лице, в которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица партизан, - он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха...
"Вот оно - то, чего я боялся", - подумал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, за что бы ухватиться... И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы, напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко зазвенело в нем.
Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами. - На прорыв, да? - хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и вытянулся на стременах.
Когда я проснулся, солнце уже поднялось высоко, во всяком случае, его лучи, пробиваясь сквозь прорези жалюзи, ярко высвечивали желтый, блестевший как зеркало, лаковый паркет. Юры в номере не было, но это меня не огорчило. Он уже не мог исчезнуть надолго, в этом я нисколько не сомневался. В подтверждение моей уверенности на журнальном столике из стекла лежала записка: «Позвоню». Номер моего телефона узнать было не сложно, поэтому я верил в написанное. Я отметил, что и почерк был мне знаком. Спешить было некуда, я с удовольствием принял душ и снова бухнулся в постель. Оставалось ждать. Я вспомнил свое обещание и тут же позвонил Ане.
Слушай, он совсем не изменился! Мы всю ночь провели вместе!..
Аня хохотнула:
Да нет, - сказал я, - ты неверно меня поняла.
Ты его зацепил?
Я сказал, что мы были так увлечены воспоминаниями, что до главного, так сказать, вопроса дело еще не дошло.
Иногда ты меня поражаешь, - сказала Аня.
За это ты меня и любишь!
Мы поговорили о чем-то еще, то да се, ну пока, да, пока. Затем я вдруг почувствовал, что проголодался и поспешил в ресторан. Потом я бесцельно бродил по Иерусалиму. Как сказано, я бывал здесь не раз, обошел все святые места, и всегда приходил на эту светлую просторную площадь у Стены плача. Здесь было чересчур много света и воздуха, и каждый раз меня охватывал трепет перед живой историей мира. И как всем евреям, присутствующим у этой святыни, мне хотелось, так же качаясь как маятник, написать несколько слов Богу и втиснуть крохотный клочок бумаги в расщелину между плитами. У меня, как у каждого живущего на этой земле, было о чем попросить Всевышнего. Неиссякаемый поток людей, неумолчный заунывный шепот, шевеление губ, подернутые поволокой надежды бессмысленные взгляды и эти живые маятники, все это притишивало и останавливало вечный бег в твоем теле и заставляло задумываться. Мысли мои снова и снова возвращались к Юре, к нашим клеточкам, генам и клонам, к будущему сотрудничеству и строительству пирамиды счастливой жизни вот точно из таких же духовных глыб, как плиты этой Стены. Чтобы потом каждый мог прийти к ним и нам поклониться. Часам к пяти вечера телефон наконец запиликал.
Встречаемся, - спросил Юра, - ты где?
Меня порадовало то, что он произнес это слово с каким-то требованием, что ли, во всяком случае, голос его не предполагал возражений с моей стороны. Я, конечно же, тотчас согласился. Ему, как и он мне, нужен был я, это было очевидно. Из нашего вчерашнего разговора было ясно, что какой-то этап нашей будущей жизни мы снова должны провести вместе. Насколько этот этап будет длительным и взаимоинтересным, нам и предстояло сейчас выяснить. К сожалению, я не захватил с собой фотографии, где мы с Аней снимались в Париже, мне хотелось бы ему показать, как прекрасно выглядит теперь Аня, зато у меня была электронная версия пирамиды, и я надеялся, что такая наглядность нашей идеи построения, так сказать, счастливого будущего человечества, не оставит его равнодушным. Он по-прежнему, как мне казалось, падок на славу, а его настоящий образ жизни не позволяет ему к ней приближаться. На его будущей славе, на нашей общей славе, я и хотел сыграть. Ибо что может быть притягательнее жажды славы?
Еще будучи в Америке, когда все указывало на то, что Юру следует выслеживать в Иерусалиме, я подумал о том, чтобы убить здесь двух зайцев одним выстрелом. Пребывание в Иерусалиме как раз и было этим выстрелом. Первый заяц - Юра, был у меня на мушке. Или на крючке. Все складывалось, как мне казалось, наилучшим образом. В конце концов Юра не мог уже соскользнуть с крючка, который был мною заброшен в его аквариум. Он, я надеялся, глубоко заглотил мою аппетитную наживку, и теперь мне меньше всего хотелось, чтобы он чувствовал себя обманутым, соблазненным моими посулами прославить свое имя. Хотя с моей стороны никаких конкретных предложений еще не было. Но ключевые слова-тестеры (ген, клон, Америка, пирамида, бессмертие) мною вскользь уже были произнесены, и тот факт, что мы располагаем колоссальными возможностями, сделал свое дело: он клюнул. Зная его, я был убежден, что все у нас склеится. Второй заяц, которого я хотел здесь подстрелить, мог бы быть не менее крупной добычей. Эта мысль давно не давала мне покоя: как раздобыть геном Иисуса? Те геномы, что у нас уже были, - Ленина, Брежнева, Наполеона, кого-то еще, не шли ни в какое сравнение с геномом Христа. Эта мысль была глубоко запрятана в моем мозгу и хранилась в самых потаенных его уголках, я до сих пор ни с кем этим не делился. За такую мысль в те серые века инквизиция сожгла бы меня на костре. Выскажи ее я сегодня, меня и сегодня наверняка сочли бы еретиком и богохульником. Но в наше светлое время, когда провозглашается торжество науки и разума, кто-то ведь должен быть первым. Если мы жаждем совершенства, нужно взять на себя смелость показать человечеству. Это Совершенство. Пусть это будет второе пришествие Христа, пусть. Пусть потом будет Страшный Суд. Важно ведь то, что совершенство свершится!
О третьем зайце, которого я хотел здесь подстрелить, мне даже думать не приходилось. Тину? Здесь? Подстрелить?..
Да какого рожна она здесь должна делать?
Кап, - говорит Лена.
Давай лей уже, - прошу я, - капаешь…
Это кто дневалит? - спросила она, подходя ближе. - Костя?.. Морозка вернулся, не знаешь?
- Выходит, ты на сеновале спала? - сказал Костя с досадой и разочарованием. - Вот не знал! Морозку не жди - загулял в дым: по коню поминки справляет... Холодно, да? Дай спичку... Она отыскала коробок, - он закурил, прикрыв огонь большими ладонями, потом осветил ее:
- А ты сдала, молоденькая... - и улыбнулся.
- Возьми их себе... - Она подняла воротник и вышла за ворота.
- Куда ты?
- Пойду искать его!
- Морозку?.. Здорово!.. Может, я его заменю?
- Нет, навряд ли...
- Это с каких же таких пор? Она не ответила. <Ну - свойская девка>, - подумал дневальный. Было так темно, что Варя с трудом различала дорогу. Начал накрапывать дождик. Сады шумели все тревожней и глуше. Где-то под забором жалобно скулил продрогший щенок. Варя ощупью отыскала его и сунула за пазуху, под шинель, - он сильно дрожал и тыкался мордой. У одной из хат ей попался дневальный Кубрака, - она спросила, не знает ли он, где гуляет Мо-розка. Дневальный направил ее к церкви. Она исходила полдеревни без всякого результата и, расстроившись вконец, повернула обратно. Она так часто сворачивала из одного переулка в другой, что забыла дорогу, и теперь шла наугад, почти не думая о цели своих странствований; только крепче прижимала к груди потеплевшего щенка. Прошло, наверное, не меньше часа, пока она попала на улицу, ведущую к дому. Она свернула в нее, хватаясь свободной рукой за плетень, чтобы не поскользнуться, и, сделав несколько шагов, чуть не наступила на Морозку. Он лежал на животе, головой к плетню, подложив под голову руки, и чуть слышно стонал, - как видно, его только что рвало. Варя не столько узнала его, сколько почувствовала, что это он, - не в первый раз она заставала его в таком положении.
- Ваня! - позвала она, присев на корточки и положив ему на плечо свою мягкую и добрую ладонь. - Ты чего тут лежишь? Плохо тебе, да? Он приподнял голову, и она увидела его измученное, опухшее, бледное лицо. Ей стало жаль его - он казался таким слабым и маленьким. Узнав ее, он криво улыбнулся и, тщательно следя за исправностью своих движений, сел, прислонился к плетню и вытянул ноги.
- А-а... это вы?.. М-мое вам почтение... - пролепетал он ослабевшим голосом, пытаясь, однако, перейти на тон развязного благополучия. - М-мое вам почтение, товарищ... Морозова...
- Пойдем со мной, Ваня, - она взяла его за руку. Или ты, может, не в силах?.. Обожди - сейчас все устроим, я достучусь... - И она решительно вскочила, намереваясь попроситься в соседнюю избу. Она ни секунды не колебалась в том, удобно ли темной ночью стучаться к незнакомым людям и что могут подумать о ней самой, если она ввалится в избу с пьяным мужчиной, - она никогда не обращала внимания на такие вещи. Но Морозка вдруг испуганно замотал головой и захрипел:
- Ни-ни-ни... Я тебе достучусь!.. Тише!.. - И он потряс сжатыми кулаками у своих висков. Ей показалось даже, что он потрезвел от испуга. - Тут Гончаренко стоит, разве н-не-известно?.. Да как же м-можно...
- Ну и что ж, что Гончаренко? Подумаешь - барин...
- Н-нет, ты не знаешь, - он болезненно сморщился и схватился за голову, - ты же не знаешь - зачем же?.. Ведь он меня за человека, а я... ну, как же?.. Не-ет, разве можно...
- И что ты мелешь без толку, миленький ты мой, сказала она, снова опустившись на корточки рядом с ним. - Смотри - дождик идет, сыро, завтра в поход идти, пойдем, миленький...
- Нет, я пропал, - сказал он как-то уж совсем грустно и трезво. - Ну, что я теперь, кто я, зачем, - подумайте, люди?.. - И он вдруг жалобно повел вокруг своими опухшими, полными слез глазами. Тогда она обняла его свободной рукой и, почти касаясь губами его ресниц, зашептала ему нежно и покровительственно, как ребенку:
- Ну, что ты горюешь? И чем тебе может быть плохо?.. Коня жалко, да? Так там уж другого припасли, - такой добрый коник... Ну, не горюй, милый, не плачь, - гляди, какую я собачку нашла, гляди, какой кутенок! - И она, отвернув ворот шинели, показала ему сонного вислоухого щенка. Она была так растрогана, что не только ее голос, но вся она точно журчала и ворковала от доброты.
- У-у, цуцик! - сказал Морозка с пьяной нежностью и облапил его за уши. - Где ты его?.. К-кусается, стерва...
- Ну, вот видишь!.. Пойдем, миленький... Ей удалось поднять его на ноги, и так, увещевая его и отвлекая от дурных мыслей, она повела его к дому, и он уже не сопротивлялся, а верил ей. За всю дорогу он ни разу не напомнил ей о Мечике, и она тоже не заикнулась о нем, как будто и не было между ними никакого Мечика. Потом Морозка нахохлился и вовсе замолчал: он заметно трезвел. Так дошли они до той избы, где стоял Дубов. Морозка, вцепившись в перекладинки лестницы, пытался влезть на сеновал, но ноги не слушались его.
- Может, подсобить? - спросила Варя.
- Нет, я сам, дура! - ответил он грубо и сконфуженно.
- Ну, прощай тогда... Он отпустил лестницу и испуганно посмотрел на нее:
- Как <прощай>?
- Да уж как-нибудь. - Она засмеялась деланно и грустно. Он вдруг шагнул к ней и, неловко обняв ее, прижался к ее лицу своей неумелой щекой. Она почувствовала, что ему хочется поцеловать ее, и ему действительно хотелось, но он постыдился, потому что парни на руднике редко ласкали девушек, а только сходились с ними; за всю совместную жизнь он поцеловал ее только один раз - в день их свадьбы, - когда был сильно пьян и соседи кричали <горько>. <... Вот и конец, и все обернулось по-старому, будто и не было ничего, - думала Варя с грустным, тоскливым чувством, когда насытившийся Морозка заснул, прикорнув возле ее плеча. - Снова по старой тропке, одну и ту же лямку - и все к одному месту... Но боже ж мой, как мало в том радости!> Она повернулась спиной к Морозке, закрыв глаза и поджав по-сиротски ноги, но ей так и не удалось заснуть... Далеко за селом, с той стороны, где начинался Хаунихедзский волостной тракт и где стояли часовые, раздались три сигнальных выстрела... Варя разбудила Морозку, - и, только он поднял свою кудлатую голову, снова ухнули за селом караульные берданы, и тотчас же в ответ им, прорезая ночную темь и тишь, полилась, завыла, затакала волчья пулеметная дробь... Морозка сумрачно махнул рукой и вслед за Варей полез с сеновала. Дождя уж не было, но ветер покрепчал; где-то хлопала ставня, и мокрый желтый лист вился во тьме. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошки. В течение нескольких минут, пока Морозка добрался до пуни и вывел своего Иуду, он вновь перечувствовал все, что произошло с ним вчера. Сердце у него сжалось, когда он представил себе убитого Мишку с остекленевшими глазами, и вспомнил вдруг, с омерзением и страхом, все свое вчерашнее недостойное поведение: он, пьяный, ходил по улицам, и все видели его, пьяного партизана, он орал на все село похабные песни. С ним был Мечик, его враг, они гуляли запанибрата, и он, Морозка, клялся ему в любви и просил у него прощения - в чем? за что?.. Он чувствовал теперь всю нестерпимую фальшь этих своих поступков. Что скажет Ле-винсон? И разве можно, на самом деле, показаться на глаза Гон-чаренке после такого дебоша? Большинство его товарищей уже седлали коней и выводили их за ворота, а у него все было неисправно: седло - без подпруги, винтовка осталась в избе Гончаренки.
- Тимофей, друг, выручи!.. - жалобным, чуть не плачущим голосом взмолился он, завидев Дубова, бежавшего по двору. - Дай мне запасную подпругу - у тебя есть, я видал...
- Что?! - заревел Дубов. - А где ты раньше был?! Бешено ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взнялись на дыбы, он полез к своему коню за подпругой. На!.. - гневно сказал он, через некоторое время подходя к Морозке, и вдруг изо всей силы вытянул его подпругой по спине. <Конечно, теперь он может бить меня, я того заслужил>, - подумал Морозка и даже не огрызнулся - он не почувствовал боли. Но мир стал для него еще мрачнее. И эти выстрелы, что трещали во тьме, эта темь, судьба, что поджидала его за околицей, - казались ему справедливой карой за все, что он совершил в жизни. Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвились над селом. Бакланов, в перетянутой шинели, с револьвером в руке, подбежал к воротам, кричал:
- Спешиться!.. Построиться в одну шеренгу!.. Человек двадцать оставишь при конях, - сказал он Дубову.
- За мной! Бегом!.. - крикнул он через несколько минут и ринулся куда-то во тьму; за ним, на ходу запахивая шинели, расстегивая патронташи, побежала цепь. Дорогой им встретились убегавшие часовые.
- Их там несметная сила! - кричали они, панически размахивая руками. Грохнул орудийный залп; снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, поповский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за другим, с короткими, равными промежутками. Где-то на краю занялось полымя - загорелся стог или изба. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Ле-винсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к поскотине: он увидал при вспышках бомб бегущие к нему навстречу неприятельские цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга, от реки, и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться, отступая наискось в правый угол, перебегая звеньями, лавируя по переулкам, садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки, - она передвигалась к центру, - как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница, видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая многоголовая лава людей и лошадей. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел.
- Вот они, - облегченно сказал Левинсон. - Скорей по коням! Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили - пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Огненно дребезжащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ныряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким шипением вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины, - отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела. Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, полыхавшее над селом, - горел целый квартал, - на фоне этого зарева метались одиночками и группами черные огненноликие фигурки людей. Сташинский, скакавший рядом, вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за ней, зацепившись ногой за стремя, потом он упал, а лошадь понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, не решаясь топтать мертвое тело.
- Левинсон, смотри! - возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо. Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив сюда, в низину.
- Скорей!.. Скорей!.. - кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца. Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей. В лесу было спокойней и глуше: стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвавшись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрачные, медные, темнеющие по краям блики, и виден был окутывающий стволы сырой, точно окровавленный мох. Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении идти (он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление), а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него, эти люди, - придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту; под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо - почва была очень вязкая. Особенно трудно приходилось поводырям из взвода Дубова, - они вели по три лошади, только Варя вела две - свою и Морозкину. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий извивающийся след, точно тут проползло какое-то смрадное, нечистое пресмыкающееся. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился...
- Что там случилось? - спросил он.
- Не знаю, - ответил партизан, шедший перед ним. Это был Мечик.
- А ты узнай по цепи... Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст:
- Дальше идти некуда, трясина... Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда - это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним, она имела теперь самое непосредственное отношение к ним, теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба. Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастия, - конечно же, это был Левинсон!.. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха, - пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!.. И вдруг он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими горящими круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, разыгравшейся там, на опушке леса, - его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех:
- Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впадать в панику... Молчать! взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах. - Слушать мою команду! Мы будем гатить болото - другого выхода нет у нас... Борисов (это был новый командир 3-го взвода), оставь поводырей и иди на подмогу Бакланову! Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказа отступать... Кубрак! Выделить трех человек для связи с Баклановым... Слушайте все! Привяжите лошадей! Два отделения - за лозняком! Не жалеть шашек... Все остальные - в распоряжение Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак, за мной!.. - Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье. И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка... Слышался грохот падающего дерева, и громадная, ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темно-зеленая, поросшая ряской, поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава. Там, цепляясь за сучья, - освещенные дымным пламенем, выхватывавшим из темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей, - в воде, в грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахнувшую лягушечьей икрой воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери... А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов одного за другим слал людей и спрашивал: скоро ли?.. скоро?.. Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова, истекшего кровью от бесчисленных ран, и медленно отступал, сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, который рубили для гати, - дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько человек работающих было уже ранено, - Варя делала им перевязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы; некоторые, оборвав повода, метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи. Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать. Бакланов, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства. Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные; задние, обезумев, лезли на передних; гать трещала, разлезалась. У выхода на противоположный берег сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками, с исступленной матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках от лошадиного неистовства> и тянул, тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда лошадь вытащили наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних ног, и в яростном наслаждении вцепился в него зубами - в этот горчайший узел, пропитанный запахом болота и отвратительной слизью. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба, - чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные, изуродованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром, - и удивились тому, что они сделали в эту ночь.
Девятнадцать
В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост - там пролегал государственный тракт на Тудо Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Ле-винсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте, верстах в восьми от моста. Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с приказом - остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь десять минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на ТудоВакский тракт. Солнце уже поднялось над лесом. Иней давно растаял. Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой. День занялся теплый, непохожий на осенний. Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как бессилен он теперь сделать чтолибо для этих людей, уныло плетущихся позади него. Они были еще единственно не безразличны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед ними; но он, казалось, не мог уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти Метелицы... Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чемнибудь практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась, глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся, беззвучным и бесплотным роем... <Зачем эта длинная, бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... вак...скую долину... как это странно - вак...скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?.. Он говорит - дозор... Да, да, и дозор... у него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать... спать... и даже не такая, как у моего сына, а... что?..>
- Что ты сказал? - спросил он вдруг, подняв голову. Рядом с ним ехал Бакланов.
- Я говорю, надо бы дозор послать.
- Да, да, надо послать; распорядись, пожалуйста... Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью, Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то проехал мимо.
- Морозка! - крикнул Бакланов вслед уезжавшему. Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду... <Разве он остался в живых? - подумал Левинсон. - А Дубов погиб... Бедный Дубов... Но что же случилось с Морозкой?.. Ах, да - это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда...> Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще хранившим багряную листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась к кустам. На подъеме она пошла шагом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился. Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то гибким прутьям... Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких шагах от него стояли казаки.
- Слезай!.. - сказал один придушенным свистящим шепотом. Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся, - несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись наконец, побежал вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и делая невероятные прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты и кто-то ругался с злобными придыханиями... Морозка, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остается одно непосредственное желание отдыха - отдыха во что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о Варе, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко, он даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей, - он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, напнув на пятки теплую шинель... И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами, - это радостное видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь...
Позднее утро было восхитительным: солнце уже поднялось над землей и заглядывало робкими лучами в комнату, щебет уличных птиц просачивался сквозь приоткрытую створку, под тонким одеялом было тепло и уютно.
Смачно зевнув, я перевернулся на другой бок и снова попытался заснуть, однако просыпающийся организм гнул свое - тягучая тяжесть в паху будила нескромные желания. Почему-то многие из моих знакомых недолюбливали утренний стояк, говорили, что им толком в сексе не воспользуешься - сложно кончить. Я же наоборот от этого ловил всегда особый кайф. Растягивать удовольствие до мелких спазмов со сладковатым послевкусием - что может быть приятнее?
Одной рукой взявшись за источник сладостного раздражения и начав лениво поглаживать, двигая нежную кожицу по стволу, другой привычно потянулся к прикроватной тумбочке, пока вдруг не вспомнил, какой сегодня день, точнее, какой день был вчера. Вчера я выиграл длительный судебный процесс.
По воле старого маразматика, называвшегося моим дедом, но никогда не бывшим им фактически, последние пять месяцев мне пришлось довольствоваться резиновым изделием вместо горячего мужского члена внутри. Что может быть приятнее растягивания удовольствия? Пожалуй, только его растягивание вместе с человеком, мужчиной - когда в тебя, облапив всего, вколачивается эдакая махина, урчащая от наслаждения, и тебя плющит от осознания, насколько ему хорошо с тобой, насколько ему нужен именно ты в данный момент…
Дедуля, прежде чем скопытиться, вдруг вспомнил о том, что когда-то у него была дочь, и решил наверстать упущенное удовольствие от общения с родственниками. Однако родители - занятые, между прочим, люди, бизнесмен и бизнесвумен, добившиеся всего сами, без дедовой помощи - послали его куда подальше. Поняв, что там ловить нечего, неунывающий старый маразматик переключился на меня, своего единственного внука. Но и тут его ждал облом. Мало того, что с ним не захотели разговаривать, так внучок еще геем оказался.
Наверное, это обстоятельство помогло ему быстрее склеить ласты, но мне от этого ни холодно ни жарко - мало того, что всю жизнь чах над своим богатством, как Кощей Бессмертный над златом, так еще и завещание составил так, что либо я отрекаюсь от своей сущности и условно получаю все его имущество, либо сосу то, что под руку попадется, и завидую благотворительным организациям, которым оно достанется. Условно - это потому, что дедуля, чтоб его там кашель не отпускал, поставил такие суперэкономичные условия наследования, что реально воспользоваться деньгами становилось проблематично. И хотя я в деньгах недостатка не имел, все же тут уже пошел на принцип: до зубовного скрежета захотелось развеять по ветру все его состояние, которое когда-то очень облегчило бы полунищенское существование нашей небольшой семьи. Хотелось отомстить за мать, которая после моего рождения не смогла больше иметь детей, потому что дед “не услышал” просьбы, а отец, тогда еще только начинающий свое дело, не смог насобирать нужной суммы на неотложную операцию. Сейчас родители вообще, наверное, и не вспоминают об этом факте - их детище, торговый бизнес, забирает все свободное время, так что, возможно, все и к лучшему… Но деда хотелось проучить.
Радовало только то, что “мои” пункты завещания писались без привлечения адвоката - дедуля стыдился внука-гея. Эта маленькая деталь впоследствии и помогла мне выиграть судебный процесс в маленьком городке в одном из южных штатов Америки - многие пункты, в том числе и запрет на секс с мужчиной, были признаны незаконными и ограничивающими свободу выбора человека. Так что со вчерашнего дня я владел многомилионным состоянием с некоторыми оговорками - все же суд признал право завещателя указывать, как и на что будут потрачены его денежки.
К сожалению, на родине такой процесс получил бы широкую и нежелательную огласку, так что я уехал за границу ради такого дела. Почему именно в американскую глубинку? Да просто вспомнил старенький сериал “Твин Пикс” и подумал, что хочу ощутить ту самую атмосферу безмятежности и плавности бытия, которая присуща тихим провинциальным городкам этой страны. И действительно, мировые проблемы и кризисы обходят стороной такие местечки или вязнут на подходе, как мухи в сиропе, не долетая до ушей провинциалов.
Погладив в последний раз приятно напряженный орган, все же пересилил себя и встал с постели - пора было отправляться на поиски приключений на свою пятую точку, за месяцы судебных разбирательств жутко соскучившуюся по этим самым приключениям. Меня ждал городок побольше, какие в России принято гордо именовать “райцентр”.
Первым, что я купил вчера на дедовы денежки, стала тачка, которую сразу же отдал на тюнинг. Деньги творят чудеса - сегодня утром она уже стояла под окнами, готовая к путешествию. Быстро помывшись и позавтракав, спустился на крыльцо, чтобы оглядеть еще раз свое приобретение. Великовато, конечно, но что поделать - это же автобус.
Дедуля, чтоб ему там икалось не по-детски, одним из пунктов в завещании прописал, чтоб я не мог купить легковой автомобиль на его деньги, полагая - надо сказать, небезосновательно - что данный атрибут красивой жизни будет вызывать повышенный нежелательный интерес у молодых людей к моей персоне. По завещанию я должен был пользоваться общественным транспортом, пока не заработаю на машину сам.
Свои деньги, которые я накопил за время работы в отцовской фирме после окончания университета, полностью потратил на переезд, обустройство и оплату дотошного юриста. Этот крючкотвор с поистине американской въедливостью объяснил мне, как можно ездить с комфортом, не нарушая условие завещания: нигде же не прописано, что транспорт должен быть муниципальным, а для того, чтобы назвать его общественным (термин достаточно расплывчатый), достаточно прокатить несколько человек в своем автобусе и заснять это на видео в качестве доказательства, если вдруг кому придет в голову проверить выполнение условий.
В моем “общественном” автобусе, просторном, светлом из-за больших окон, после вчерашней переделки появился удобный диван с баром в конце салона, а место водителя отделялось теперь от салона непрозрачной ширмой - все как в современных автомобилях премиум-класса.
Объяснив на ломаном английском маршрут поездки водителю, нанятому вчера же, запрыгнул внутрь. Мы отправились в “райцентр” - прокатиться по известным гей-точкам, чтобы выбрать лучшую.
На диван не хотелось, так что я уселся в кресле у окна где-то в центре салона, откинул свою спинку немного назад, впередистоящего кресла - вперед, и примостился птичкой-галочкой в получившемся углублении, закинув ноги на спинку выше носа. Рюкзак швырнул рядом, закрыл глаза и начал релаксировать под рев двигателя и шум трассы.
На выезде из встретившегося по пути городка автобус свернул на другую дорогу, повернувшись моими окнами к яркому солнцу, и остановился на светофоре. Я поморщился и открыл глаза, собираясь пересесть подальше от света, да так и замер, открыв при этом еще и рот - прямо напротив меня на соседней полосе в небольшой пробке перед светофором стоял большой черный джип, водитель и пассажир которого смачно целовались, притягивая друг друга за шею, агрессивно засасывая и характерно двигая головами, то сближаясь, то отдаляясь. Я сидел спиной к движению (сиденья в автобусе были повернуты к центру салона, как в электричках), так что смог рассмотреть всю картину в деталях.
Водитель, рыжий веснушчатый тип, отпрянул назад, улыбнувшись, что-то сказал своему коротко стриженному темноволосому спутнику. Тот подался еще сильнее к центру, повернулся назад и… начал сосаться с типом с заднего сидения.
Я сглотнул, неотрывно наблюдая за целующимися, отметив краем сознания, что обхватившая затылок рука принадлежит такому же крупному мужчине, как те, что сидели на передних сидениях. Облизнулся, почувствовав, как кровь прилила к щекам и пересохло горло. Посмотрел на позабытого водителя - тот в ответ сверлил меня серыми глазами. Кажется, меня засекли - рыжий, не прерывая контакта взглядов, что-то произнес, и все четыре головы вопросительно уставились на меня. Четыре?! На заднем сиденье, оказывается, сидели двое, одного из них я сначала не заметил.