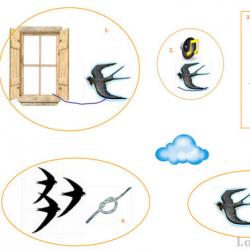Ариес филипп основоположник история детства. Филипп арьес человек перед лицом смерти. Ребёнок и семейная жизнь при старом порядке
Французский историк, автор работ по истории повседневности, семьи и детства. Предметом его наиболее известной книги «Человек перед лицом смерти» является история отношения к смерти в европейском обществе.
Сам Арьес считал себя «правым анархистом». Был близок к ультраправой организации Аксьон франсез, однако со временем дистанцировался от неё как от слишком авторитарной. Сотрудничал с монархическим изданием La Nation française. Однако это не мешало ему состоять в тесных отношениях с рядом левых историков, в особенности с Мишелем Фуко.
Арьес занимал уникальную позицию в мире французских интеллектуалов. Большую часть жизни он не имел академического статуса: почти сорок лет он проработал на руководящей должности в департаменте, занимающемся импортом во Францию тропических фруктов. В частности, он внёс вклад в техническое и информационное перевооружение службы импорта. Сам себя Арьес называл «воскресным историком», имея в виду, что он работает над историческими трудами в минуты отдыха от основного места службы. Так называется его автобиографическая книга, изданная в 1980 году (Un historien du dimanche). При жизни Арьеса его работы были гораздо больше известны в англоязычном мире (переводились на английский с 1960-х годов), нежели в самой Франции. Лишь в 1978 году он получил запоздалое академическое признание и пост в Высшей школе социальных наук, директором которой был историк Франсуа Фюре.
Он создал несколько первоклассных исторических исследований, тематика которых сосредоточена на полюсах человеческой жизни. С одной стороны, это труды, посвященные детству, ребенку и отношению к нему при "старом порядке", преимущественно в XVI-XVIII вв., с другой - труды о смерти и ее восприятии на Западе на протяжении всей христианской эпохи. Обе эти точки дуги в человеческой жизни в интерпретации Арьеса утрачивают свою внеисторичность. Он показал, что и отношение к детству, к ребенку, и восприятие смерти суть важные предметы исторического анализа.
- 8 февраля , Париж) - французский историк , автор работ по истории повседневности , семьи и детства. Предметом его наиболее известной книги «Человек перед лицом смерти» является история отношения к смерти в европейском обществе. Автор трудов, посвящённых детству, ребёнку и отношению к нему при «старом порядке », преимущественно в XVI-XVIII вв. В своих работах показал, что и отношение к детству и восприятие смерти суть важные предметы исторического анализа.
Личность
Арьес занимал уникальную позицию в мире французских интеллектуалов. Большую часть жизни он не имел академического статуса: почти сорок лет он проработал на руководящей должности в департаменте, занимающемся импортом во Францию тропических фруктов. В частности, он внёс вклад в техническое и информационное перевооружение службы импорта. Сам себя Арьес называл «воскресным историком», имея в виду, что он работает над историческими трудами в минуты отдыха от основного места службы. Так называется его автобиографическая книга, изданная в 1980 году (Un historien du dimanche ). При жизни Арьеса его работы были гораздо больше известны в англоязычном мире (переводились на английский с 1960-х годов), нежели в самой Франции. Лишь в 1978 году он получил запоздалое академическое признание и пост в Высшей школе социальных наук , директором которой был историк Франсуа Фюре .
Сам Арьес считал себя «правым анархистом» . Был близок к ультраправой организации Аксьон франсез , однако со временем дистанцировался от неё как от слишком авторитарной. Сотрудничал с монархическим изданием La Nation française (франц. ) . Однако это не мешало ему состоять в тесных отношениях с рядом левых историков, в особенности с Мишелем Фуко .
Работы
Ребёнок и семейная жизнь при старом порядке
Книга, вышедшая во Франции в 1960 году является одной из наиболее важных работ по истории детства, так как по существу была первой значительной работой посвящённой этому вопросу. В своей работе Арьес выдвигает тезис о том, что в средневековом обществе, идеи детства как таковой не существовало. Отношение к детям развивалось с течением времени по мере изменения экономической и социальной ситуации. Детство как понятие и как специфическая роль в семье возникает в XVII веке.
Человек перед лицом смерти
Работа «Человек перед лицом смерти» издана в 1977 году, на русском языке - в 1992.
Главный тезис Арьеса, развиваемый им в книге: существует связь между установками в отношении к смерти, доминирующими в данном обществе на определённом этапе истории, и самосознанием личности, типичной для этого общества. Поэтому в изменении восприятия смерти находят своё выражение сдвиги в трактовке человеком самого себя.
Арьес намечает пять главных этапов в изменении установок по отношению к смерти.
Первый этап (обозначенный выражением «все умрём») - это состояние «приручённой смерти», остающееся стабильным в широких слоях населения, начиная с архаических времён до XIX в., (или даже до наших дней). Данным термином («приручённая смерть») Арьес подчеркивает, что люди на этом этапе относились к смерти как к обыденному явлению, которое не внушало им особых страхов. Человек органично включен в природу, и между мёртвыми и живыми существует гармония. Поэтому «прирученную смерть» принимали в качестве естественной неизбежности. Отсутствие страха перед смертью у людей Раннего Средневековья Арьес объясняет тем, что, по их представлениям, умерших не ожидали суд и возмездие за прожитую жизнь, и они погружались в своего рода сон, который будет длиться «до конца времён», до второго пришествия Христа, после чего все, кроме наиболее тяжких грешников, пробудятся и войдут в царствие небесное.
Второй этап («смерть своя») утверждается интеллектуальной элитой в период между XI и XIII вв. на основе идеи Страшного суда. Представление о суде над родом человеческим сменяется новым представлением - о суде индивидуальном, который происходит в момент кончины человека. В своей смерти человек индивидуализируется, собственная идентичность берёт верх над подчинением коллективной судьбе. Этот этап является результатом трансформации человеческой судьбы в сторону её индивидуализации.
Третий этап эволюции восприятия смерти (эпоха Просвещения) - «смерть далекая и близкая». Он характеризуется, по Арьесу, крахом механизмов защиты от природы. И к сексу, и к смерти возвращается их дикая, неукрощенная, не смиренная ритуалами сущность. Символом этой эпохи для учёного становится маркиз де Сад.
Четвёртый этап многовековой эволюции в переживании смерти - «смерть твоя» (эпоха романтизма). Комплекс трагических эмоций, вызываемый уходом из жизни любимого человека или друга, на взгляд Арьеса, новое явление, связанное с укреплением эмоциональных уз внутри семьи и вообще между людьми. С ослаблением веры в загробные кары меняется отношение к смерти; её ждут как момента воссоединения с любимым существом, ранее ушедшим из жизни. Кончина близкого человека представляется более тягостной утратой, нежели собственная смерть. Романтизм способствует превращению страха смерти в чувство прекрасного.
Пятый этап, названный Арьесом «смерть перевёрнутая», характерен для XX века, когда общество вытесняет смерть из коллективного сознания, ведёт себя так, как будто её не существует, как будто вообще никто не умирает.
Арьес задавался вопросом, почему менялось отношение к смерти. По его мнению, восприятие смерти европейцами определяли четыре параметра:
- индивидуальное самосознание;
- защитные механизмы против неконтролируемых сил природы, постоянно угрожающих социальному порядку (наиболее опасные силы - секс и смерть);
- вера в загробное существование;
- вера в тесную связь между злом и грехом, страданием и смертью, образующая базис мифа о «падении» человека.
Эти «переменные» вступают между собой в различные сочетания, сложно меняющиеся в ходе истории.
Список работ
- Les Traditions sociales dans les pays de France , Éditions de la Nouvelle France, .
- Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIII e , Self, .
- Attitudes devant la vie et devant la mort du XVII e au XIX e , quelques aspects de leurs variations , INED, .
- Sur les origines de la contraception en France , extrait de Population . No 3, juillet-septembre , pp 465–472.
- Le Temps de l’histoire , Éditions du Rocher, 1954.
- Deux contributions à l’histoire des pratiques contraceptives , extrait de Population . N ̊ 4, octobre-décembre , pp 683–698.
- L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime , Plon, .
- Essais sur l’histoire de la mort en Occident: du Moyen Âge à nos jours , Seuil, .
- L’Homme devant la mort , Seuil, .
- Un historien du dimanche (en collaboration avec Michel Winock), Seuil, .
- Images de l’homme devant la mort , Seuil, .
- Histoire de la vie privée , (dir. avec Georges Duby), 5 tomes: I. De l’Empire romain à l’an mil; II. De l’Europe féodale à la Renaissance; III. De la Renaissance aux Lumières; IV. De la Révolution à la Grande guerre; V. De la Première Guerre mondiale à nos jours, Seuil, 1985-1986-1987.
- Essais de mémoire: 1943-1983 , Seuil, .
- Le présent quotidien, 1955-1966 (Recueil de textes parus dans La Nation française entre 1955 et 1966), Seuil, .
- Histoire de la vie privée , (dir. avec Georges Duby), le Grand livre du mois, .
Изданные на русском языке
- Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс - Прогресс-Академия, 1992.
- Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1999.
- Арьес Ф. Время истории. М.: ОГИ, 2011.
Напишите отзыв о статье "Арьес, Филипп"
Примечания
Литература
- Hutton, Patrick H., Philippe Ariès and the politics of French cultural history , Univ. of Massachusetts Press 2004
- Evans, Richard J., In Defence of History , Granta Books 1997
|
||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Арьес, Филипп
– Nicolas, не говорите мне этого, – сказала она.– Нет, я должен. Может быть это suffisance [самонадеянность] с моей стороны, но всё лучше сказать. Ежели вы откажетесь для меня, то я должен вам сказать всю правду. Я вас люблю, я думаю, больше всех…
– Мне и довольно, – вспыхнув, сказала Соня.
– Нет, но я тысячу раз влюблялся и буду влюбляться, хотя такого чувства дружбы, доверия, любви, я ни к кому не имею, как к вам. Потом я молод. Мaman не хочет этого. Ну, просто, я ничего не обещаю. И я прошу вас подумать о предложении Долохова, – сказал он, с трудом выговаривая фамилию своего друга.
– Не говорите мне этого. Я ничего не хочу. Я люблю вас, как брата, и всегда буду любить, и больше мне ничего не надо.
– Вы ангел, я вас не стою, но я только боюсь обмануть вас. – Николай еще раз поцеловал ее руку.
У Иогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих adolescentes, [девушек,] выделывающих свои только что выученные па; это говорили и сами adolescentes и adolescents, [девушки и юноши,] танцовавшие до упаду; эти взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы с мыслию снизойти до них и находя в них самое лучшее веселье. В этот же год на этих балах сделалось два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и вышли замуж, и тем еще более пустили в славу эти балы. Особенного на этих балах было то, что не было хозяина и хозяйки: был, как пух летающий, по правилам искусства расшаркивающийся, добродушный Иогель, который принимал билетики за уроки от всех своих гостей; было то, что на эти балы еще езжали только те, кто хотел танцовать и веселиться, как хотят этого 13 ти и 14 ти летние девочки, в первый раз надевающие длинные платья. Все, за редкими исключениями, были или казались хорошенькими: так восторженно они все улыбались и так разгорались их глазки. Иногда танцовывали даже pas de chale лучшие ученицы, из которых лучшая была Наташа, отличавшаяся своею грациозностью; но на этом, последнем бале танцовали только экосезы, англезы и только что входящую в моду мазурку. Зала была взята Иогелем в дом Безухова, и бал очень удался, как говорили все. Много было хорошеньких девочек, и Ростовы барышни были из лучших. Они обе были особенно счастливы и веселы. В этот вечер Соня, гордая предложением Долохова, своим отказом и объяснением с Николаем, кружилась еще дома, не давая девушке дочесать свои косы, и теперь насквозь светилась порывистой радостью.
Наташа, не менее гордая тем, что она в первый раз была в длинном платье, на настоящем бале, была еще счастливее. Обе были в белых, кисейных платьях с розовыми лентами.
Наташа сделалась влюблена с самой той минуты, как она вошла на бал. Она не была влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена.
– Ах, как хорошо! – всё говорила она, подбегая к Соне.
Николай с Денисовым ходили по залам, ласково и покровительственно оглядывая танцующих.
– Как она мила, к"асавица будет, – сказал Денисов.
– Кто?
– Г"афиня Наташа, – отвечал Денисов.
– И как она танцует, какая г"ация! – помолчав немного, опять сказал он.
– Да про кого ты говоришь?
– Про сест"у п"о твою, – сердито крикнул Денисов.
Ростов усмехнулся.
– Mon cher comte; vous etes l"un de mes meilleurs ecoliers, il faut que vous dansiez, – сказал маленький Иогель, подходя к Николаю. – Voyez combien de jolies demoiselles. [Любезный граф, вы один из лучших моих учеников. Вам надо танцовать. Посмотрите, сколько хорошеньких девушек!] – Он с тою же просьбой обратился и к Денисову, тоже своему бывшему ученику.
– Non, mon cher, je fe"ai tapisse"ie, [Нет, мой милый, я посижу у стенки,] – сказал Денисов. – Разве вы не помните, как дурно я пользовался вашими уроками?
– О нет! – поспешно утешая его, сказал Иогель. – Вы только невнимательны были, а вы имели способности, да, вы имели способности.
Заиграли вновь вводившуюся мазурку; Николай не мог отказать Иогелю и пригласил Соню. Денисов подсел к старушкам и облокотившись на саблю, притопывая такт, что то весело рассказывал и смешил старых дам, поглядывая на танцующую молодежь. Иогель в первой паре танцовал с Наташей, своей гордостью и лучшей ученицей. Мягко, нежно перебирая своими ножками в башмачках, Иогель первым полетел по зале с робевшей, но старательно выделывающей па Наташей. Денисов не спускал с нее глаз и пристукивал саблей такт, с таким видом, который ясно говорил, что он сам не танцует только от того, что не хочет, а не от того, что не может. В середине фигуры он подозвал к себе проходившего мимо Ростова.
– Это совсем не то, – сказал он. – Разве это польская мазу"ка? А отлично танцует. – Зная, что Денисов и в Польше даже славился своим мастерством плясать польскую мазурку, Николай подбежал к Наташе:
– Поди, выбери Денисова. Вот танцует! Чудо! – сказал он.
Когда пришел опять черед Наташе, она встала и быстро перебирая своими с бантиками башмачками, робея, одна пробежала через залу к углу, где сидел Денисов. Она видела, что все смотрят на нее и ждут. Николай видел, что Денисов и Наташа улыбаясь спорили, и что Денисов отказывался, но радостно улыбался. Он подбежал.
– Пожалуйста, Василий Дмитрич, – говорила Наташа, – пойдемте, пожалуйста.
– Да, что, увольте, г"афиня, – говорил Денисов.
– Ну, полно, Вася, – сказал Николай.
– Точно кота Ваську угова"ивают, – шутя сказал Денисов.
– Целый вечер вам буду петь, – сказала Наташа.
– Волшебница всё со мной сделает! – сказал Денисов и отстегнул саблю. Он вышел из за стульев, крепко взял за руку свою даму, приподнял голову и отставил ногу, ожидая такта. Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и он представлялся тем самым молодцом, каким он сам себя чувствовал. Выждав такт, он с боку, победоносно и шутливо, взглянул на свою даму, неожиданно пристукнул одной ногой и, как мячик, упруго отскочил от пола и полетел вдоль по кругу, увлекая за собой свою даму. Он не слышно летел половину залы на одной ноге, и, казалось, не видел стоявших перед ним стульев и прямо несся на них; но вдруг, прищелкнув шпорами и расставив ноги, останавливался на каблуках, стоял так секунду, с грохотом шпор стучал на одном месте ногами, быстро вертелся и, левой ногой подщелкивая правую, опять летел по кругу. Наташа угадывала то, что он намерен был сделать, и, сама не зная как, следила за ним – отдаваясь ему. То он кружил ее, то на правой, то на левой руке, то падая на колена, обводил ее вокруг себя, и опять вскакивал и пускался вперед с такой стремительностью, как будто он намерен был, не переводя духа, перебежать через все комнаты; то вдруг опять останавливался и делал опять новое и неожиданное колено. Когда он, бойко закружив даму перед ее местом, щелкнул шпорой, кланяясь перед ней, Наташа даже не присела ему. Она с недоуменьем уставила на него глаза, улыбаясь, как будто не узнавая его. – Что ж это такое? – проговорила она.
Несмотря на то, что Иогель не признавал эту мазурку настоящей, все были восхищены мастерством Денисова, беспрестанно стали выбирать его, и старики, улыбаясь, стали разговаривать про Польшу и про доброе старое время. Денисов, раскрасневшись от мазурки и отираясь платком, подсел к Наташе и весь бал не отходил от нее.
Два дня после этого, Ростов не видал Долохова у своих и не заставал его дома; на третий день он получил от него записку. «Так как я в доме у вас бывать более не намерен по известным тебе причинам и еду в армию, то нынче вечером я даю моим приятелям прощальную пирушку – приезжай в английскую гостинницу». Ростов в 10 м часу, из театра, где он был вместе с своими и Денисовым, приехал в назначенный день в английскую гостинницу. Его тотчас же провели в лучшее помещение гостинницы, занятое на эту ночь Долоховым. Человек двадцать толпилось около стола, перед которым между двумя свечами сидел Долохов. На столе лежало золото и ассигнации, и Долохов метал банк. После предложения и отказа Сони, Николай еще не видался с ним и испытывал замешательство при мысли о том, как они свидятся.
Читая посты о теракте в Волгограде, не уставала удивляться тому, насколько по-разному люди реагируют на смерть. По-разному ее переживают и требуют разной реакции от окружающих. Такое ощущение, что в этом отношении мы находимся на переломе, в точке изменения очередных социальных стереотипов. Решила посмотреть, как изменялось отношение к смерти в течение длительного исторического периода, и наткнулась на интереснейшую книгу Филиппа Арьеса "Человек перед лицом смерти".
И сам Арьес (фр. Philippe Ariès, 21 июля 1914, Блуа — 8 февраля 1984, Париж) оказался интереснейшей личностью. Большую часть жизни он не имел академического статуса: почти сорок лет он проработал на руководящей должности в департаменте, занимающемся импортом во Францию тропических фруктов. В частности, он внёс вклад в техническое и информационное перевооружение службы импорта. Сам себя Арьес называл «воскресным историком», имея в виду, что он работает над историческими трудами в минуты отдыха от основного места службы.
При жизни Арьеса его работы были гораздо больше известны в англоязычном мире (переводились на английский с 1960-х годов), нежели в самой Франции. Лишь в 1978 году он получил запоздалое академическое признание и пост в Высшей школе социальных наук, директором которой был историк Франсуа Фюре.
Как ни странно, но до Арьеса тема отношения человека к смерти практически не имела своих исследователей. Его книга положила начало целому пласту новых исследований историков, психологов и культурологов. Смерть стали рассматривать как один из коренных «параметров» коллективного сознания, а поскольку последнее не остается в ходе истории недвижимым, то изменения эти не могут не выразиться также и в сдвигах в отношении человека к смерти.
Сама книга велика по объему и написана очень неровно, местами даже сумбурно. Цитаты из "Песни о Роланде" соседствуют с цитатами из Толстого и творений отцов церкви. Но содержание настолько интересно, что я решила изложить ее содержание вкратце. Те, кто заинтересуется, могут, конечно, прочитать ее целиком. Пересказать своими словами такое произведение невозможно, поэтому в основном я буду приводить цитаты, выделенные синим цветом.
Арьес намечает пять главных этапов в изменении установок по отношению к смерти. Первый этап (обозначенный выражением «все умрём») — это состояние «приручённой смерти», остающееся стабильным в широких слоях населения, начиная с архаических времён до XIX в., (или даже до наших дней). Данным термином («приручённая смерть») Арьес подчеркивает, что люди на этом этапе относились к смерти как к обыденному явлению, которое не внушало им особых страхов. Человек органично включен в природу, и между мертвыми и живыми существует гармония.
Смерть прирученная
Сначала зададимся наивным вопросом: как умирают рыцари в «Песни о Роланде», в романах о рыцарях Круглого стола, в поэмах о Тристане? Они умирают отнюдь не как придется. Их смерть регулируется строгим ритуалом, услужливо описанным поэтами. Смерть обычная, нормальная не приходит к героям исподтишка, незаметно, даже если она наступает как следствие случайной раны, даже если к ней приводит, что случалось, слишком сильное волнение.
Самое существенное в этой смерти то, что она оставляет время осознать ее приближение. «Ах, прекрасный сир, вы полагаете, что умрете так скоро?» — «Да, — отвечает Говэн, — знайте, что я не проживу и двух дней». Ни лекарь, ни товарищи, ни священники (эти вообще позабыты и отсутствуют) не знают об этом так хорошо, как он. Умирающий сам измеряет, сколько ему осталось жить.
Благочестивые монахи не отличались в этом отношении от рыцарей. Согласно хронисту Раулю Глаберу (начало XI в.), после четырех лет заточения в монастыре Сен-Мартен-деТур достопочтенный Эрве почувствовал, что скоро покинет этот мир, и многочисленные паломники сбежались туда в надежде на какое-нибудь чудо. Надпись 1151 г., хранящаяся в музее монахов-августинцев в Тулузе, рассказывает, что церковный сторож в Сен-Поль-де-Нарбонн также «увидел, как приближается к нему смерть, словно заранее знал о своей кончине». В окружении монахов он составил завещание, исповедался, пошел в церковь принять причастие и там умер.
Некоторые предчувствия имели характер чуда; особенно верным признаком было явление умершего, хотя бы и во сне. Так, вдова короля Бана после смерти мужа и таинственного исчезновения сына дала монашеский обет. Прошли годы. Как-то раз она увидела во сне в прекрасном саду своего сына и племянников, считавшихся умершими. «Тогда она поняла, что Господь внял ее мольбам и она скоро умрет».
Развитие науки, однако, заставляло наиболее здравомыслящих ученых относиться к предчувствиям смерти как народным суевериям, хотя некоторые считали их поэтичными и относились к ним с почтением.
Особенно показательно в этом отношении то, как говорит о них Шатобриан в «Гении христианства». Для него предчувствия скорой кончины всего лишь прекрасный фольклор. «Смерть, столь поэтичная, ибо прикасается к вещам бессмертным, столь таинственная из-за своей тишины, должна иметь тысячу способов объявить о своем приходе», но он добавляет: «народу». Какое наивное признание в том, что образованные классы уже не воспринимали знаков, предвещающих смерть! В начале XIX в. люди ученые совершенно не верили в то, что они сами начали считать живописным и даже восхитительным. В глазах Шатобриана все «тысяча способов», которыми смерть могла объявить о своем приходе, имели характер чуда. «То смерть давала о себе знать звоном колокола, который начинал бить сам по себе, то человек, который должен был умереть, слышал три удара в пол его комнаты».
Чтобы о приближении смерти можно было оповестить заранее, она не должна была быть внезапной, repentina. Если она не предупреждала о своем приходе, она уже не рассматривалась как необходимость, хотя и грозная, но ожидаемая и принимаемая волей-неволей. Внезапная смерть нарушала мировой порядок, в который веровал каждый. Она была абсурдным орудием случая, иногда выступавшего под видом Божьего гнева. Вот почему mors repentina считалась позорной и бесчестящей того, кого она постигла.
В Средневековье низкой и позорящей была не только внезапная и абсурдная смерть, но также смерть без свидетелей и церемоний, как, например, кончина путешественника в дороге, утопленника, выловленного в реке, неизвестного человека, чье тело нашли на краю поля, или даже соседа, сраженного молнией без всякой причины. Неважно, был ли он в чем-либо виновен, — подобная смерть клеймила его проклятием. Это представление было очень древним. Еще Вергилий заставил прозябать в самой жалкой части ада ни в чем не повинных, которые были преданы смерти по ложному обвинению и которых мы, современные люди, захотели бы, разумеется, полностью оправдать.
Если по поводу скоропостижной смерти честного игрока еще можно было дискутировать, то в случае с человеком, умершим от порчи, сомнений уже не было. Жертва не может быть объявлена невинной, она неизбежно запятнана «низменностью» своей смерти. Гийом Дюран объединяет жертву колдовства с людьми, умершими во время прелюбодеяния, кражи или языческих игрищ, то есть вообще всех игр, за исключением рыцарских турниров (многие канонисты не делали снисхождения и для турниров).
Народное осуждение, постигавшее жертву злодейского убийства, если и не препятствовало ей быть похороненной по-христиански, то иногда налагало на нее нечто вроде штрафа. Канонист Томассен, писавший в 1710 г., сообщает, что в XIII в. архипресвитерц Венгрии имели обыкновение «взимать марку серебра с тех, кто был злосчастно убит мечом, или ядом, или иными подобными же способами, прежде чем позволить предать их земле».
Еще в большей мере была позорной смерть приговоренных. Вплоть до XIV в. им отказывали даже в возможности спасти свою душу перед казнью: в ином мире их должно было ожидать то же проклятие, что и в этом.
Обычная и идеальная смерть в Раннее Средневековье не была специфически христианской кончиной, благом для души, каким представляли смерть столетия христианской литературы, начиная с отцов церкви и вплоть до благочестивых гуманистов. С тех пор как воскресший Христос победил смерть, она рассматривалась как новое рождение, как восхождение к жизни вечной, и потому каждый христианин должен был ожидать смерти с радостью. «Посреди жизни мы во власти смерти», — писал Ноттер в VII в. и добавлял: «На горькую смерть не предай нас». Здесь «горькая смерть» — это смерть во грехе, а не сама физическая кончина грешника.
На смертном одре: обиходные ритуалы
Чувствуя свой скорый конец, умирающий принимал необходимые меры. В мире, столь насыщенном чудесами, как мир рыцарей Круглого стола, смерть была, напротив, вещью весьма простой. Когда Ланселот, побежденный и ослабевший, ожидал в пустынном лесу близкой смерти, он снял доспехи, распростерся на земле, повернув голову на восток, сложил руки крестом и начал молиться. Смерть всегда описывается в таких словах, простота которых контрастирует с эмоциональной насыщенностью контекста.
Привязанность к жизни, обремененной заботами и горестями, сожаление о ней соединяются с принятием близкой смерти.
Все эти действия, совершаемые умирающим после того, как он ложится лицом к небу, с руками, скрещенными на груди, носят ритуальный, церемониальный характер. В них можно распознать разновидность того, что под воздействием церкви станет средневековым завещанием: исповедание веры, покаяние, прощание с живыми и благочестивые распоряжения, относящиеся к ним, предание своей души Богу, выбор погребения. Когда произнесена последняя молитва, человеку, лежащему на смертном одре, остается только ожидать конца, и у смерти уже нет больше никаких причин медлить.
С окончанием молитвы смерть наступила мгновенно. Если же случалось так, что она запаздывала, умирающий ожидал ее в молчании и с миром живых уже больше не общался.
Публичность
Интимная простота смерти — одна из двух ее необходимых характеристик. Другая — это публичность, и она сохранялась вплоть до конца XIX в. Умирающий должен быть в центре, посреди собравшихся людей.
Даже совсем незнакомый семье человек мог войти в комнату умирающего в момент последнего причастия. Так, благочестивая госпожа де ла Ферронэ (30-е гг. XIX в.), прогуливаясь по улицам Ишля, услышала колокол и узнала, что сейчас понесут последнее причастие молодому священнику, лежавшему на смертном одре. Ранее госпожа де ла Ферронэ не осмеливалась нанести визит больному, так как не была с ним знакома, но последнее причащение, «вполне естественно, заставило меня туда пойти». (Отметим это «вполне естественно».) Вместе со всеми она преклонила колени у ворот дома, пока туда входили священники со святыми дарами, затем все поднялись, вошли в дом и присутствовали при последнем причащении и соборовании умирающего.

«Прирученную смерть» принимали в качестве естественной неизбежности. Отсутствие страха перед смертью у людей Раннего Средневековья Арьес объясняет тем, что, по их представлениям, умерших не ожидали суд и возмездие за прожитую жизнь, они погружались в своего рода сон, который будет длиться «до конца времён», до второго пришествия Христа, после чего все, кроме наиболее тяжких грешников, пробудятся и войдут в царствие небесное.
Мертвые спят
Расстояние между жизнью и смертью не воспринималось, по выражению философа Владимира Янкелевича, как некая «радикальная метабола». Не было представления об абсолютной отрицательности, о разрыве перед лицом пропасти, где нет больше памяти. Люди не испытывали также головокружения и экзистенциальной тоски, или по крайней мере ни то ни другое не находило себе места в стереотипных образах смерти. Зато не было и веры в простое продолжение жизни по ту сторону земной кончины. Примечательно, что последнее прощание Роланда и Оливье не содержит никакого намека на возможность вновь обрести друг друга на небесах. Лучше любого историка философ Янкелевич понял этот характер смерти как перехода: усопший ускользает в мир, «который отличается от здешнего только очень низким показателем интенсивности».
Тогда думали, что мертвые спят. Представление это древнее и неизменное: уже в гомеровском Аиде умершие, бесплотные призраки, «спят в объятиях смерти». Области ада у Вергилия — «местопребывание сна, теней и усыпляющей ночи». Там, где в христианском раю почиют самые блаженные тени, свет имеет цвет пурпура, то есть сумерек.
В Фералии, в день поминовения усопших, римляне, по свидетельству Овидия, приносили жертвы Таките, немой богине, воплощавшей в себе ту тишину, которая царила у манов — душ умерших — в "том месте, обреченном тишине". Это был также день жертвоприношений, совершаемых на гробницах, ибо мертвые, в определенные моменты и в определенных местах, пробуждались от своего сна как неясные образы из сновидения и могли внести смуту в мир живых.
Представляется, однако, что изнуренные тени в языческих верованиях были все же более одушевленными, чем христианские спящие первых столетий новой религии. Конечно, и они могли бродить, невидимые, среди живых, и мы уже знаем, что они являлись тем, кому предстояло вскоре умереть. Но раннее христианство еще более настаивало на гипнотической нечувствительности и даже бессознательности мертвых, несомненно, именно потому, что их сон должен был быть всего лишь ожиданием счастливого пробуждения в день воскрешения плоти.
В латинских надписях часто можно прочесть не только «здесь лежит», но и «здесь покоится», «здесь отдыхает», «здесь спит». В раннесредневековых литургиях, сменившихся в эпоху Каролингов римской литургией, упоминаются «имена почиющих»; верующим предлагалось молиться «за души почиющих». Соборование, предназначенное в средние века для клириков, называлось dormientium exitium, последнее таинство спящих.
Образ смерти как сна пережил столетия: мы находим его в литургии, в надгробной скульптуре, в завещаниях. Ведь и сегодня после чьей-либо смерти люди молятся «за упокой его души». Образ покоя воплощает в себе самое древнее, самое народное и самое неизменное представление о мире мертвых. Это представление не исчезло и сегодня.
В цветущем саду
Мертвые спали в цветущем саду. «Да примет Бог все наши души среди святых цветов», — взывает архиепископ Турпин, стоя перед телами павших рыцарей. Также и Роланд молится, чтобы Господь поместил его душу «в святые цветы». Рай Турпина и Роланда или по крайней мере этот образ рая (поскольку были и другие) не многим отличается от Вергилиева Элизия с его «свежими лугами, орошаемыми ручьями», или от обетованного сада, который сулит правоверным Коран.
Напротив, в гомеровском Аиде нет ни сада, ни цветов. Не знает Аид (во всяком случае тот, который изображен в 11-й песне «Одиссеи») и мук, появившихся позднее в образе христианского ада. Между представлениями о подземном царстве мертвых у Гомера и Вергилия расстояние больше, чем между представлениями Вергилия и древнейшим образом потустороннего мира у христиан. Так что ни Средневековье с его пристрастием к Вергилию, ни Данте не ошиблись.
В Credo или же в старом римском каноне ад выступает как традиционное местопребывание умерших, скорее место ожидания, чем место пыток. Праведники Ветхого завета ожидали там, пока Христос после своей смерти придет их освободить или пробудить. Только позднее, в контексте идеи Страшного суда, ад окончательно во всей христианской культуре стал тем, чем раньше он был лишь в отдельных случаях: царством Сатаны и местом вечных мучений грешников.
Покорность перед неизбежным
Судебные документы конца XVII в. позволяют обнаружить в народном менталитете той эпохи смесь бесчувственности, покорности и стремления к прилюдности в отношении к смерти, которые мы уже исследовали, основываясь на других источниках.
И дело не в недостатке способов выражения чувств; ведь, например, завораживающее обаяние денег, богатства человек того времени умел выражать с большой силой. Но несмотря на такую любовь к вещам мира сего, умирающий преступник, каким он предстает в судебных протоколах, «производит впечатление приятия неизбежности».
Смерть прирученная
Обнаружить на всем протяжении истории, от Гомера до Толстого, неизменное выражение одной и той же глобальной установки в отношении смерти не значит признать за ней некое структурное постоянство, чуждое собственно исторической изменчивости. На этом первичном и восходящем к незапамятной древности фоне все время менялось множество элементов. Но сам этот фон в течение более чем двух тысячелетий сопротивлялся толчкам эволюции. В мире, подверженном изменениям, традиционное отношение к смерти предстает как некая дамба инерции и континуитета.
Оно настолько изгладилось сейчас из наших нравов, что нам трудно его себе вообразить и понять. Старая позиция, согласно которой смерть одновременно близка, хорошо знакома, но при этом умалена и сделана нечувствительной, слишком противоречит нашему восприятию, где смерть внушает такой страх, что мы уже не осмеливаемся произносить ее имя.
Вот почему, когда мы называем эту интимно связанную с человеком смерть, какой она была в прошлые века, «прирученной», мы не хотим этим сказать, будто некогда она была дикой, а затем стала домашней. Напротив, мы имеем в виду, что дикой она стала сегодня, тогда как прежде не была таковой. Именно та смерть, древнейшая, была прирученной.
Сам Арьес считал себя «правым анархистом». Был близок к ультраправой организации Аксьон франсез , однако со временем дистанцировался от неё как от слишком авторитарной. Сотрудничал с монархическим изданием La Nation fran?aise (англ.) . Однако это не мешало ему состоять в тесных отношениях с рядом левых историков, в особенности с Мишелем Фуко.
Он создал несколько первоклассных исторических исследований, тематика которых сосредоточена на полюсах человеческой жизни. С одной стороны, это труды, посвященные детству, ребенку и отношению к нему при "старом порядке", преимущественно в XVI-XVIII вв., с другой - труды о смерти и ее восприятии на Западе на протяжении всей христианской эпохи. Обе эти точки дуги в человеческой жизни в интерпретации Арьеса утрачивают свою внеисторичность. Он показал, что и отношение к детству, к ребенку, и восприятние смерти суть важные предметы исторического анализа.
При жизни Арьеса его работы были гораздо больше известны в англоязычном мире, нежели в самой Франции.
Работы
Ребенок и семейная жизнь при старом порядке
Книга, вышедшая во Франции в 1960 году является одной из наиболее важных работ по истории детства, так как по существу была первой значительной работой посвящённой этому вопросу. В своей работе Арьес выдвигает тезис о том, что в средневековом обществе, идеи детства как таковой не существовало. Отношение к детям развивалось с течением времени по мере изменения экономической и социальной ситуации. Детство как понятие и как специфическая роль в семье возникает в XVII веке.
Человек перед лицом смерти
Список работ
- L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien R?gime , Plon, 1960.
- Sur les origines de la contraception en France , extrait de Population . No 3, juillet-septembre 1953, pp 465–472.
- Attitudes devant la vie et devant la mort du XVII e au XIX e , quelques aspects de leurs variations , INED, 1949.
- Essais sur l’histoire de la mort en Occident: du Moyen ?ge ? nos jours , Seuil, 1975.
- Le Temps de l’histoire , ?ditions du Rocher, 1954.
- Les Traditions sociales dans les pays de France , ?ditions de la Nouvelle France, 1943.
- Histoire des populations fran?aises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIII e , Self, 1948.
- Histoire de la vie priv?e , (dir. avec Georges Duby), 5 tomes: I. De l’Empire romain ? l’an mil; II. De l’Europe f?odale ? la Renaissance; III. De la Renaissance aux Lumi?res; IV. De la R?volution ? la Grande guerre; V. De la Premi?re Guerre mondiale ? nos jours, Seuil, 1985-1986-1987.
- Histoire de la vie priv?e , (dir. avec Georges Duby), le Grand livre du mois, 2001.
- Deux contributions ? l’histoire des pratiques contraceptives , extrait de Population . N ? 4, octobre-d?cembre 1954, pp 683–698.
- Un historien du dimanche (en collaboration avec Michel Winock), Seuil, 1980.
- L’Homme devant la mort , Seuil, 1977.
- Le pr?sent quotidien, 1955-1966 (Recueil de textes parus dans La Nation fran?aise entre 1955 et 1966), Seuil, 1997.
- Images de l’homme devant la mort , Seuil, 1983.
- Essais de m?moire: 1943-1983 , Seuil, 1993.
Изданные на русском языке
- Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: «Прогресс» - «Прогресс-Академия», 1992
- Филипп Арьес. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999
ФИЛИПП АРЬЕС: СМЕРТЬ КАК ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
В чем причина того, что среди проблем истории культуры и мировосприятия, разрабатываемых современными историками, проблема смерти занимает одно из видных мест? До сравнительно недавнего времени она их почти вовсе не занимала. Молчаливо исходили из постулата, что смерть всегда есть смерть ("люди рождались, страдали и умирали…"), и обсуждать здесь, собственно, нечего. Из цеха историков только археологи, имеющие дело с человеческими останками, могилами и их содержимым, и этнологи, изучающие погребальные обычаи и ритуалы, символику и мифологию, соприкасались с этой темой. Теперь же перед исторической наукой вырисовалась проблема восприятия смерти людьми в разные эпохи, их оценки этого феномена. И оказалось, что это в высшей степени существенная проблема, рассмотрение которой способно пролить новый свет на системы мировидения и ценностей, принятые в обществе.
То, что историки до недавнего времени обходили молчанием эту проблему, объясняется непониманием того, во-первых, сколь важную роль смерть играет в конституировании картины мира, присущей данной социально-культурной общности, равно как и в психической жизни, и, во-вторых, сколь изменчивы - при всей стабильности - эта картина мира и, соответственно, образ смерти и загробного существования, отношения между миром живых и миром мертвых.
Когда историки наконец всерьез занялись проблемами смерти, обнаружилось, что смерть - не только сюжет исторической демографии или богословия и церковной дидактики. Смерть - один из коренных «параметров» коллективного сознания, а поскольку последнее не остается в ходе истории недвижимым, то изменения эти не могут не выразиться также и в сдвигах в отношении человека к смерти. Изучение этих установок может пролить свет на отношение людей к жизни и основным ее ценностям. По мнению некоторых ученых, отношение к смерти - своего рода эталон, индикатор характера цивилизации. В восприятии смерти выявляются тайны человеческой личности. Но личность, условно говоря, - «средний член» между культурой и социальностью, то звено, которое их объединяет. Поэтому восприятие смерти, потустороннего мира, связей между живыми и мертвыми - тема, обсуждение которой могло бы существенно углубить понимание многих сторон социально-культурной действительности минувших эпох, лучше понять, каков был человек в истории.
Еще недавно как бы не существовавшая для исторического знания проблема смерти внезапно и взрывообразно возникла в горизонте исследования, приковав к себе внимание многих историков, прежде всего историков, занимающихся историей Европы в средние века и в начале Нового времени. Обсуждение этой проблемы, осветив до того остававшиеся в тени стороны ментальности людей этих эпох, вместе с тем обнаружило новые аспекты научной методологии историков. Тема осознания смерти в истории с особенной ясностью обнаружила связь направлений научных поисков в гуманитарных дисциплинах с современностью. Внимание историков все сильнее притягивает история человеческого сознания, притом не только, даже не столько идеологические его аспекты, сколько аспекты социально-психологические.
Литература, посвященная смерти в истории, уже с трудом поддается обозрению. Французский историк Мишель Вовелль, давно занимающийся этой проблемой, в одной из своих статей предостерегает против смешения научного исследования восприятия смерти с модой. Впрочем, ведь и мода тоже выражает некую общественную потребность. Своего рода «бум», вызванный интересом к проблеме восприятия смерти в разных культурах, действительно имел место в 70-е и 80-е гг., и он породил ряд интересных работ.
Проблема отношения к смерти и понимания потустороннего мира - составная часть более общей проблемы ментальностей, социально-психологических установок, способов восприятия мира. Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания, не вполне отрефлектированного и не систематизированного посредством целенаправленных усилий теоретиков и мыслителей. Идеи на уровне ментальностей - это не порожденные индивидуальным сознанием завершенные в себе духовные конструкции, а восприятие такого рода идей определенной социальной средой, восприятие, которое их бессознательно и бесконтрольно видоизменяет.
Неосознанность или неполная осознанность - один из важных признаков ментальностей. В ментальности раскрывается то, о чем изучаемая историческая эпоха вовсе и не собиралась, да и не была в состоянии сообщить, и эти ее невольные послания, обычно не «отфильтрованные» и не процензурированные в умах тех, кто их отправил, тем самым лишены намеренной тенденциозности. В этой особенности ментальности заключена ее огромная познавательная ценность для исследователя. На этом уровне удается расслышать такое, о чем нельзя узнать из сознательных высказываний.
Круг знаний о человеке в истории, о его представлениях и чувствах, верованиях и страхах, о его поведении и жизненных ценностях, включая самооценку, резко расширяется, делается многомерным и глубже выражающим специфику исторической реальности; Очень существенно то, что новые знания о человеке, включаемые в поле зрения историка на уровне ментальностей, относятся по преимуществу не к одним лишь представителям интеллектуальной элиты, которые на протяжении большей части истории монополизировали образование, а потому и информацию, традиционно доступную историкам, но и к широким слоям населения.
Если идеи вырабатывают и высказывают немногие, то ментальность - неотъемлемое качество любого человека, ее нужно лишь уметь уловить. До этого «безмолвствовавшее большинство», практически исключаемое из истории, оказывается способным заговорить на языке символов, ритуалов, жестов, обычаев, верований и суеверий и донести до сведения историка хотя бы частицу своего духовного универсума.
Выясняется, что ментальности образуют свою особенную сферу, со специфическими закономерностями и ритмами, противоречиво и опосредованно связанную с миром идей в собственном смысле слова, но ни в коей мере не сводимую к нему. Проблема «народной культуры» - сколь ни неопределенно и даже обманчиво это наименование, - как проблема духовной жизни масс, отличной от официальной культуры верхов, ныне приобрела новое огромное значение именно в свете исследования истории ментальностей. Сфера ментальностей столь же сложно связана и с материальной жизнью общества, с производством, демографией, бытом.
Преломление определяющих условий исторического процесса в общественной психологии, подчас сильно преображенное и даже до неузнаваемости искаженное, и культурные и религиозные традиции и стереотипы играют в ее формировании и функционировании огромную роль. Разглядеть за «планом выражения» «план содержания», проникнуть в этот невыговоренный внятно и текучий по своему составу пласт общественного сознания, настолько потаенный, что до недавнего времени историки и не подозревали о его существовании, - задача первостепенной научной важности и огромной интеллектуальной привлекательности. Ее разработка открывает перед исследователями поистине необозримые перспективы.
Мне казалось нужным напомнить об этих аспектах ментальности, поскольку именно в установках по отношению к смерти неосознанное или невыговоренное играет особенно большую роль. Но возникает вопрос: каким образом историк, пользуясь проверяемыми научными процедурами, может осуществить эту задачу? Где искать источники, анализ которых мог бы раскрыть тайны коллективной психологии и общественного поведения людей в разных обществах?
Знакомство с трудами об отношении к смерти в Западной Европе могло бы ввести в лабораторию изучения ментальных установок. При относительной стабильности источников, которыми располагают историки, им приходится идти прежде всего по линии интенсификации исследования. Ученый ищет новые подходы к уже известным памятникам, познавательный потенциал которых не был ранее распознан и оценен, он стремится задать им новые вопросы, испытать источники на «неисчерпаемость». Постановка вопроса об отношении к смерти - яркое свидетельство того, насколько получение нового знания в истории зависит от умственной активности исследователя, от его способности обновлять свой вопросник, с которым он подходит к, казалось бы, уже известным памятникам.